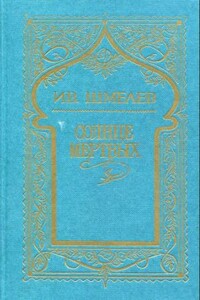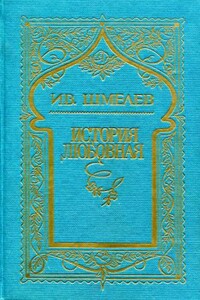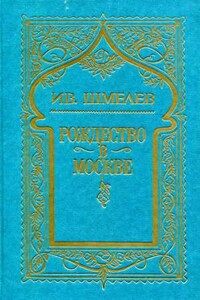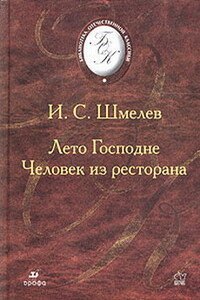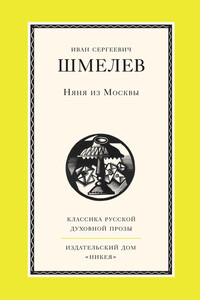За лесами – холмы песка, блудные, в жидкой и колкой травке, всегда поблеклой. За ними – он, бездумный, первозданный, великое, мертвое лицо, – свинцом на дали. Тихий, отплескивает он время тяжелым плеском, швыряет бессчетным счетом. Ненужно оно ему: в нем оно. Бурный, мертво
Гремит валами. Тяжелое его качанье – неподвижно, вечно, оистину, – пустота, бескрайность мертвого бытия. Если сидеть на песках и слушать, как мерно отплескивается время, глядеть в пустоту на дали, – оцепеневшие мысли тонут, и вливаешься сам в бездумность, в качанье вод. Это – небытие?..
Недавно я так сидел, без мысли. Но было во мне, стояло за мною что-то. Оно толкнуло, – и я очнулся от этого качанья, от этого провала в вечность.
Снова я шел лесами. Оцепеневшая мысль проснулась и вскрыла бившееся во мне, живое. Оно забилось немыми голосами, таившееся во мне, мой мир. Живая сила, чужая мертвым, – лесам и океану, – враждебная им, я знаю. Невидимое, безмерное, – в него океан вольется: дух бытия живого. Всегда он со мной, я знаю. Хочет он быть свободным. Хочет он быть бессмертным.
Я шел – и он шел со мной, ограждая меня от тлена. Я чувствовал бытие живое, борьбу великого сна и яви.
В органном гуле рождались мысли.
…Колокола когда-то снились,
Колокола – весенний звон,
А в небе ласточки носились…
И сон, и явь, – и явь, и сон.
Колокола давно не снятся,
И снов не помню, сны ушли…
Лишь смутно тени их таятся,
Тоскою душу облегли.
Мне с океана ветры пели –
Усни, усни… один, один… –
Но помню – свист и вой метели,
И рокот вод, и грохот льдин.
Весна?.. Она. Я сердцем слышу…
Проснутся сны мои в весне, –
И новых ласточек услышу,
И новый звон – в последнем сне…
И океан бездумной далью
Вольет меня в качанье вод,
И явь за синею вуалью
Уснет бездумно в свой черед.
Тяжелый шепот бездумного качанья идет за мной. Надо уйти от него, я знаю. В тихие места, привычные и ручные, где воды не плещут мерно, где голос жизни связывает меня со мною, с прошлым.
Я иду в тихую лесную заводь. Океан и сюда приходит, неслышно, как половодье наше, тихо захватывает пески, снимает уснувшие на песках лодки. Но все в молчанье. Не видно его, не слышно. И я покоен.
Здесь розовато-бледно цветет тамариск, сонный, цветами, похожими на наши, – совсем такие растут в оврагах, запах их горьковатый, легкий, чуть-чуть дурманит. Здесь много кустов веселых, – цветут они золотисто, как наш акатник. По мягкой травке рассыпано много курослепа, и скромненькая манжетка, со светлой слезой в сердечке. И сосны здесь посветлее, и много солнца. Дороги по сосняку сыпучи, совсем как наши. И мох такой же. Дали здесь нет свинцовой, не гаснут мысли. Кричат петухи за лесом, как там, в далеком… Кукушки считают годы, и перебои их радостны в испуге, будто заколотилось сердце, – вот-вот случится!.. Звонкой дрожью звенят по лесам пилы, приносит ветром знакомый смолистый запах досок, опилок, – и ломкие пленки гонок вытянутся вот-вот на глади, сверкающие рубахами, шестами… Даже благовест бедной церкви катится по лесам жидко, сбивчиво, – милые наши «сковородки»! Я знаю, что это с острой, хмурого камня, церкви чужого Доминика, но можно принять за наше.
Здесь, в тишине залива, покойно думать. Думы не гордые, не навеянные величием дел смертных: думы – о светлом прошлом.
Здесь я – на берегу, вне жизни. Человеческий океан где-то шумит и плещет, качается неподвижно в бессчетном счете, а ты стоишь на неведомом пороге, безудельный… Порваны нити с бездумною каруселью жизни, опыт как будто кончен, можно сводить итоги. Или – еще не кончен?
Сидя на берегу, внимаешь… Верная – где дорога? Цели великого кружения, шума? Качается океан безмерный, бездумно втягивает в себя, вливает. Живая душа, где ты?
Я вслушиваюсь в себя, внимаю.
Крик петухов за лесом, кукушкин позыв, омытый лесною глушью, и благовест дальней церкви – приводят ко мне родное. Смотрит оно в меня и плачет. Я нежно касаюсь его пугливой думой, и это чудесное посещенье рождает во мне надежды. Я понимаю родные слезы, я слышу шепот побитой правды, живую душу. Покорный зову, я расскажу этот шепот сердцем. И он не уйдет со мною.