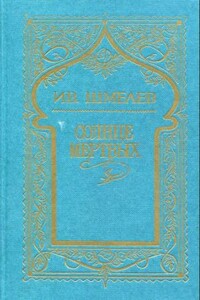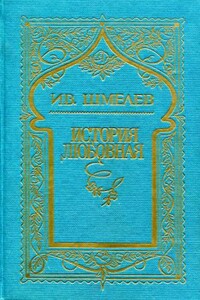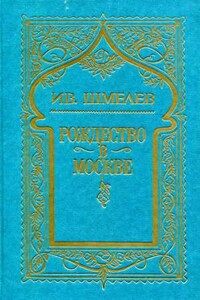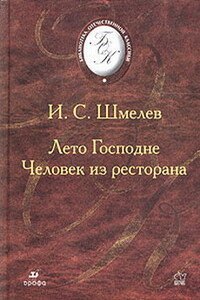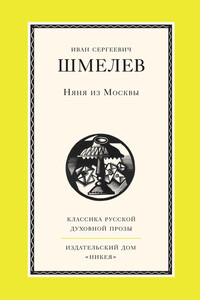Ване сказали, что в «дворянских» моется человек от графа Толстого, из Хамовников. Он перехватил его еще в «горячей», когда тот парился, и упросил зайти на чашку чая, как и меня. Там, за вишневочкой и мадерцой, он умолил «человека» взять его сочинение и показать великому писателю. О том, что сказал граф про «Страшные Цепи-Оковы», Ваня рассказывал сбивчиво: то – будто «очень понравилось», то – будто бы граф Толстой улыбнулся и сказал, что «все хорошо, только поджигать нехорошо»!
– Сам господин лакей графа Толстого говорил! Была у него тетрадка! в руках его, его!.. даже написал на ней!
– Написал на тетрадке! сам?! – поразился я. – Но ведь это же драгоценность, если фак-си-ми-лэ!.. Дайте посмотреть!
Но тут… Ваня заявил, что тетрадка у переплетчика. Так я и не видал тетрадки: была все еще у переплетчика.
Осталось тайной: написал ли и что написал Ване Сахарову граф Толстой. Как-то отец Ванин рассказал потом, что – «так его тот граф за глупые пустяки отделал, что три дня Ванька ходил, как мокрый. Дурака ему написал». Так и не разъяснилось. Но портрет был самый настоящий, с самой настоящей надписью. Были и тут неясности. Сначала Ваня восторженно говорил, закатывая глаза, словно молился на небо, что это сам граф Толстой «прислал» ему свой портрет. Потом… как-то уж выяснилось, что портрет купил Ваня в городе за два рубля и уговорил «человека из Хамовников» упросить графа расписаться, и дал ему за это пять целковых.
Как бы там ни было, но я с того случая проникся к Ване почтением и стал мечтать, что вот накоплю два рубля, куплю портрет Толстого, отправлюсь в Хамовники и умолю лакея – не отойду от дверей! – выхлопотать и мне подпись. А пока принялся читать «Собрание сочинений Л. Н. Толстого», в роскошном переплете, появившееся в Ваниной комнатке, на отдельной полочке, за занавеской из кумача. А вскоре произошло событие…
Случайно ли это вышло, или Ваня наконец-то осуществил мучившую его мечту – «прочь… от ужасных сих оков», только произошел пожар в банях. Самые-то бани уцелели, – сырые, что ли, они были, – вода и грязь! – а «Семейные номера с мраморными ванными» сгорели как есть дотла, а с ними сгорела и заветная комнатка с книгами и портретом Толстого с надписью. Ваня метался на пожаре и умолял отстоять. Не отстояли. Говорили, что он был вдрызг пьяный, кидался в огонь, как чумный, и его отвезли в больницу. Недолго пожил после этого случая: от скоротечной чахотки помер. Рассказывали у нас, что красавица Танечка ушла будто бы в монастырь: грамотная стала, по-церковному бойко читать могла.
Приходил к нам Ванин отец, тяжелый человек, с нависшими веками, безглазый, – рассказывал:
– Моя вина, не доглядел. Книжками этими до смерти зачитался. От них, знаете… получается в голове! И книжки его сгорели, и его за собой потащили.
С ним соглашались и жалели: всякие бывают книжки… а на слабую-то голову если…!
А я оставался при своем: прикопить два рубля, купить портрет, пойти в Хамовники, – дом-то я уж разглядывал, – повидать того самого «человека» и через него как-нибудь дойти. Решил написать роман и уже заглавие придумал – «Два лагеря». Мечтал: напишу, получше перепишу и понесу на суд самому Толстому. И вдруг он скажет, что…
Чудесное это было время. Радость надежд и священный трепет.
1927 г.
Вышло это так просто и неторжественно, что я и не заметил. Можно сказать, вышло это непредумышленно.
Теперь, когда это вышло на самом деле, кажется мне порой, что я не делался писателем, а будто всегда им был, только – писателем «без печати».
Помнится, нянька, бывало, говорила:
– И с чего ты такая балаболка/ Мелет-мелет невесть чего… как только язык у тебя не устает, балаболка!..
Живы во мне доныне картинки детства, обрывки, миги. Вспомнится вдруг игрушка, кубик с ободранной картинкой, складная азбучка, с буквой, похожей на топорик или жука, солнечный луч на стенке, дрожащий зайчиком… Ветка живой березки, выросшей вдруг в кроватке, у образка, – зеленой такой, чудесной. Краска на дудочке из жести, расписанной ярко розами, запах и вкус ее, смешанный с вкусом кровки от расцарапанной острым краем губки, черные тараканы на полу, собравшиеся залезть ко мне, запах кастрюльки с кашкой… Боженька в уголке, с лампадкой, лепет непонимаемой молитвы, в которой светится «Деворадуйся»… Обрывок няниной песенки –