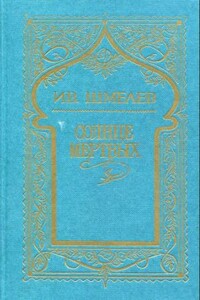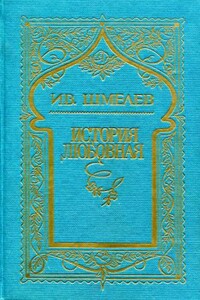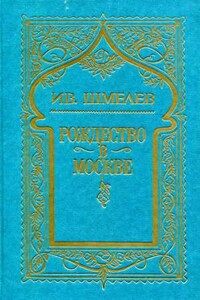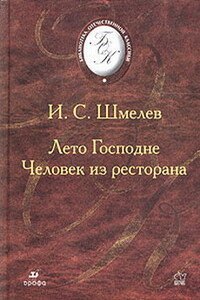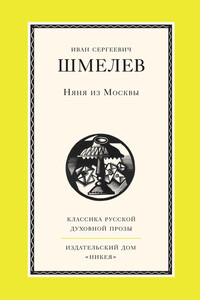Дудочка и коса… и смерть! Я помню: и страх и радость.
Помню я «переменки» в пансионе и старенькое лицо учительницы, Анны Димитриевны Вертес. Как я ее боялся в первые дни ученья! Я думал: оборотень она! За белой дверью, где учились большие девочки, она говорила непонятно:
– Мед-муазель!..
Иногда вскрикивала строго – будто понятное – «сортир», но это было совсем другое, а вовсе не то, что называется так у нас. Что значит «оборотень» – я знал от плотников. Она не такая, как всякий крещеный человек, и потому говорит такое, как колдуны. Стоя за ее стулом, я всматривался в ее спину и затылок, в кучку волос за сеткой. Перекрестить если, она опрокинется! Я незаметно крестил ее и шептал: «А ну, спрокинься!» Но она оставалась все такая. Потом я понял, что это – «столпотворение вавилонское». Батюшка нам рассказывал и показывал в книжке башню, почему стали разные языки. И я подумал, что и Анна Димитриевна строила большую башню и у ней смешались все языки. Я спросил ее, было ли ей страшно – «столпотворение вавилонское», и сколько у ней языков. Она долго смеялась, велела высунуть мне язык и показала свой. Нет, у ней был только один язык.
– Скоро и у тебя будет «столпотворение», – сказала она смеясь, – будешь учить Марго и, конечно, плакать.
Тут она позвала из-за белой двери большую девочку и велела «долбить Марго». Девочка плакала над книжкой и все долбила:
«Сеньор-бенил-увраж… Сеньор-бенил-увраж…»
Мне стало неприятно: если и мне так будет. Скоро я узнал многое.
Аничка Дьячкова, самая красивая девочка, выскочила из-за белой двери, взяла меня за ручку и крикнула:
– Пойдем, я научу тебя танцевать, хочешь?
Она завертела меня по залу, под музыку рояля, топала и кричала весело:
– И-раз-два-три… и-раз-два-три!.. и-раз-два-три… и-раз-два-три!..
Потом понеслась со мной по коридору, присела передо мной, как маленькая, дала мне изо рта мятную карамельку в рот и стала учить стишкам:
Рэгарде-машер-сестрицд,
Кельжоли-идет-гарсон,
Сэтасе – богу-молиться,
Нам-пора-алямэзон!
– А, хорошее «столпотворение»? – спросила она меня, целуя.
– Хорошее… – сказал я, слыша, как пахнет карамелькой, – пропой еще!
Она пропела еще, и я без ошибочки повторил. Она взяла меня за ушки и поцеловала в губки. С тех пор, на уроке танцев, я с замиранием ждал, когда Аничка схватит меня вертеться. Так весь и обомлеешь, как она разбежится через залу, раскатится в прюнелевых башмачках на тонких ножках, сделает мне так ручкой и присядет. Коричневое ее платьице так и надуется и разъедется по полу, как веер, и мне почему-то стыдно, словно на нас все смотрят, и это очень нехорошо. И мы вертимся-вертимся… пока Анна Димитриевна не крикнет от рояля:
– Анэт, вы его совсем, бедненького, завертели, сэтасе!
А мне хоть бы без конца вертеться. Но только с Аничкой.
У ней были синие-синие глаза, а губки аленькие и сладкие, и всегда от них пахло карамелькой. Она часто утаскивала меня в темный коридор, усаживала на большой сундук и приказывала рассказывать. Я многое ей рассказывал, чего и она не знала. Рассказал даже, как барин отнял у старика жернова, а петух его все стращал: «Барин-барин, отдай стариковы жернова!» – и как барин велел петушка зарезать и съел до перышка, а петушок высунул из барина головку и закричал опять: «Барин, барин, отдай стариковы жернова!» – и как барин велел голову петуху рубить, а петух-то и уюркнул назад, а слуги и отрубили барину… Тут я не мог сказать. Она не отставала и все допытывалась:
– Скажи, чего барину отрубили? Дам еще конфетку!
Я сказал, что говорят это плотники, а я не могу сказать. Тогда она научила еще стишкам и повела меня на другой сундук, под шубы:
Пуговицы-вицы-вицы,
Лебутон-тон-тон,
Бариннна-ннна-нина,
Лем угон-тон-тон!
И все-таки я не мог сказать. Тогда она еще научила:
Кескевуфет?
Пошла кошка в буфет,
Нашла фент конфет,
Донмуа! Ах, нет!..
Тут она развернула карамельку, взяла ее в зубы и стала меня дразнить:
– Скажи, чего барину отрубили… тогда дам! Не скажешь, не дам! – И ущипнула меня за носик, и очень больно. Но и тут я не смог сказать. Тогда она мне сказала, что она и без меня знает, чего барину отрубили. Я начал спорить: