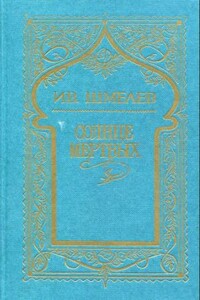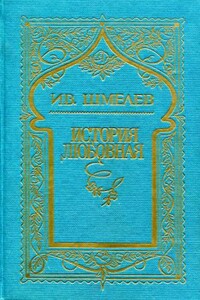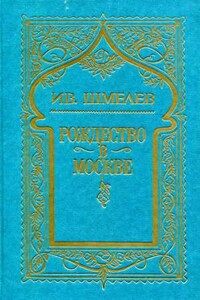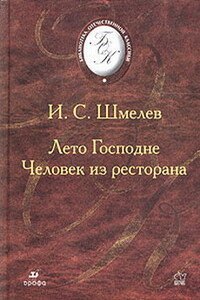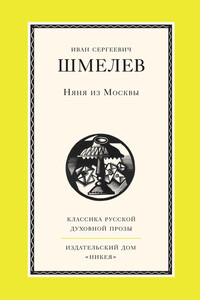«Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о винограднике Его. У Возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы. И Он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые гроздья, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите Меня с виноградником Моим». И прочитал дальше – чудесное и грозящее, как бы исто-
«Хорошо, добрый сэр! – сказал мне пастух. – Дальше читайте, про судьбу, дорогой сэр».
И показал место корочкой от сыра. И я прочитал: «…преисподняя расширилась, и без меры раскрыла пасть свою; и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их… Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким!.. Горе тем, которые мудры в своих глазах…»
«Здесь, сэр! – еще показал корочкой старик: – Здесь суд».
И я прочитал покорно:
«…истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах; потому что они отвергли закон Господа…»
«Все это правда, дорогой сэр! – погрозил старик корочкой. – Неверная стала жизнь».
Мы хорошо поговорили со стариком. Слов было мало, но так – я не помню, когда говорил и с кем. Многого он не знал, конечно. Где же, при овцах, знать многое в нашей жизни. Но он знал многое, и такое, чего не знал я, историк. Он, мудрый от неба и от земли, – явился живым Исайей. И я услыхал от него его суд над жизнью. Исайя… Его, живого, я встретил – в моем шотландце. Я так был радостно потрясен. Чем – Вы спросите/ Величавою простотой и чистотою сердца. Этому – предложите все богатства мира, и он не отдаст за них свою книгу, овец, осыпающуюся церковь, свою корку сыра и кусок хлеба. Я был радостно потрясен, почувствовав в нем – святое, если оно еще есть на свете. Вы понимаете? Корни – целы. Виноградник еще хранит в зиме нашей благородную почку, которая может развернуться.
И я сказал ему это на его суд над жизнью. Знаете, что он мне ответил?
«Поглядите, добрый сэр, на это место. Больше тридцати лет тому здесь рос столетний каштан, и мне хорошо было под ним в непогоды. Его повалила буря. Побегов не было, сэр… поели козы».
Побеги будут. Они, вероятно, будут.
Сколько он знал и видел! Он связал меня с предками. Он – я и не знал того – семилетним мальчиком приносил моему прапрадеду перепелов и жаворонков, муравьиные яйца и вересковых улиток. Видел родившегося моего отца, когда впервые принесли его в церковь. Он словом своим поднял кладбище все, всю округу – и я почувствовал, что все они еще живы, как этот вечерний свет за окнами кабинета, пробившийся из тумана и уже гаснущий. Завтра он снова будет, будет наверное. Не все же туман и дождь.
Эта встреча и земля моей родины, которую я так близко почувствовал в этот вечерний час, живые недра которой неиссякаемы, делают меня более сильным. Я крепче держу перо. Слово – великая сила, дарованная земным. Слово творящее – Слово-Бог. Тихие овцы, кроткие, и тихий пастырь. Я почувствовал непорываемую связь с моим давним, с духовно-вечным, что несли в жизни и передали нам все, укрывшиеся камнями и кустами по кладбищам. Слово-родной мой язык и мысль. Я так был счастлив, и я понес эту примиряющую тишину – к себе.
Да, я еще увижу его, пастыря. Он дал мне слово зайти на Праздник. Я ему предложил пять шиллингов. Он сказал: «А чем же я отработаю их, добрый сэр?»
И положил за чулок, покачивая головою. Завтра доставит ему почтальон фуфайку, куртку и башмаки. И он покачает головой.
Все еще ощущая неуловимый запах наших холмов и туманного неба, древних камней церковных, которые унесли меня в колыбель народа, запахи стада, овечьего сыра и пастуха и непередаваемый аромат скорбных слов древнего гения, трепетных и доселе, – я пишу вам ответ-привет.
Да, Вы отчасти правы. Много и грязи, и крови, и неправды в жизни. Много, как пишете Вы, «парикмахеров, мясников, шоферов и лакеев». Да, лакеев. И в политике, и в искусстве, и в мысли-чувстве. Много кинематографов – правы Вы. Кинематографов и шоферов. «Шоферы всюду – в вонючей коже, в вонючем масле. Мчат они в реве-гуле, рвут чаевые и „по часам“ ведут машину тысячеглазую, тысячеротую, послушную, как рабы, и давят в беге своем живое, оставляя угарный след. Сбросит она порой, ударит в камень – и разбивается на куски». Да, я знаю. И безмерную пошлость, и исполинское чванство, и всемирное второклассничество. От синема, от отравляющих Дух «мовис» получаем мы и политику, и мораль, и новеллы, и – науку даже; и мысли, и речи, и жесты – все бегло, смешно и плоско и «пахнет в мире бензином», как пишете Вы, «и потешающим „Максом“, паяцем и шулером всех сортов. А чудесные лилии, рожденные из Голгофской Крови…» Да, Вы отчасти правы. Взмыли моторы и на Голгофу и сбили Крест, подавили святые лилии. Да, забыто много прекрасного, и кроткий голос из Гефсиманского Сада смолк. Ушел в Пустыню – решать и думать?