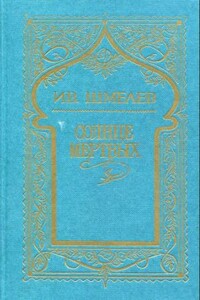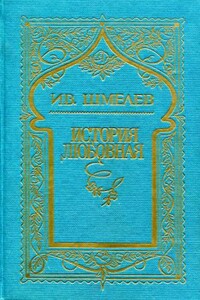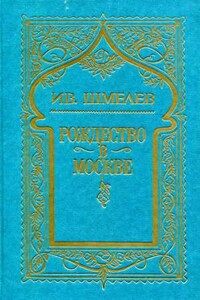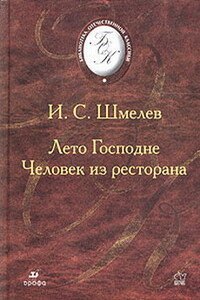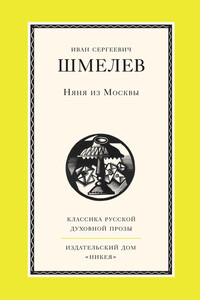Узнал – и загоготал по-жеребячьи:
«А я… шут те дери… старичишка Гнусавый – думал!..»
А Гнусавый был у нас пьяница-побирушка, всегда с мешком, и нос ввинчен, – ничтожество всей округи.
«А этто сам господин… кла-дун! Ай, думаю, плевать, всыплю!..»
«Вы меня ранили!..» – крикнул я из последнего, что еще оставалось во мне живого.
«А зачем – под руку, раз стреляю?! Сколько за ей хожу… хитрые они, стервы… не подпускают… А тут совсем, был, подшел… нарошно испугали!..»
Он был, как обычно, пьян. Он насунулся на меня вонючей харей и крикнул:
«Ну, доказывай… игде я вас спортил?.. игде?!.»
Я отнял руку, показал на чесучовом рукаве два алых пятнышка, засучил рукав… Две дробинки дроздятника синели в сочившихся кровью ранках. Можно еще и теперь видеть, следы остались: пятнышки на предплечье, как оспины.
«А . . . . . . . . очарябало всего только… а-тлетныи!..»
Я глазами вбирал его – и только. Что я тут мог?! Кричать на него, грозить? взывать к… чему? к его «бессмертному духу»?! Жаловаться – кому?! Он был власть, безответственная до… смерти. Он вышел бы из своего суда героем. Это я сам, я сам помешал ему… я, паразит на его прекрасной шее!..
«Зайчатником бы вот ахнул!..» – усмехнулся он и пошел, посвистывая. А я остался.
Я выдавил дробинки, – в портмоне они у меня, на память, – высосал ранки и перевязал платком, – они еще у меня водились. И вот, после такого двойного потрясения, я таки получил «разряд»! Чаша переплеснулась, и я нашел, постиг… не рассудком, а гораздо глубже, пигаличьим нюхом, что ли, что я ничтожнее и дешевле… пигалицы! У меня не было утешения даже зайца из сказочки, который пошел топиться, увидал прыгнувшую от него лягушку и осмелел. Дробинки переплеснули чашу.
И вот когда я сидел так, разглядывая дробинки, птицы опять явились, выплакивая свое. И тут я крикнул – мной что-то крикнуло! – в ужасе, протесте и отвращении:
«Слушайте же хоть вы, пигалицы несчастные, мою клятву! Не могу я больше! Найду в себе человека!..»
И уже там, на пеньках, под ватным, померкшим небом, не вдумываясь, я знал, что буду делать, что нужно делать. После я разобрался. В эту же ночь я выстроил путаные ряды «за» и «против», привел в порядок и строго подвел итог.
И с первой минуты клятвы у меня уже стало – чем жить. Я поднял мешок и бодро пошел на дачу. У меня вырастали крылья. Я перелетал от болотца к болотцу, от пенька к пеньку… оставлял позади себя все эти бум-бумы и дыр-бул-щылы… Я нашел в себе уснувшую силу сопротивления, воли, сметки и ненависти. Я повторял себе:
«Это будет! Или – я должен кончить!»
IX
Обратили ли вы внимание, как там, – в мое пребывание, по крайней мере, – мало кончались сами?
В отраве люди забыли, что они единственное еще могут – сами! Или и этот последний выход казался уже утраченным? Или – сознание, что нельзя так беззвучно уйти из ада? уж так притерпелись?
Я видел потрясающую способность примениться и претерпеть. Видел, как иные сумели себя уверить, что есть в этом какой-то глубинный смысл и лишь сильные дерзать могут. И стали – сильными? в заслугу себе вменили сладостно на кострах сгореть, в пламени «бича Божьего». И остались при собственных квартирах. К померкшим глазам подставили шулерские стекляшки…
И я решил бежать от этого чадного обмана.
Вы уж извините меня, что я все отклоняюсь, что не развертываю перед вами волнующих картин побега, маскировок, слежек, качаний на острие над смертью… Романы приключений! Никогда им не верил раньше, – теперь скажу: какая бледная выдумка! Не до приключений мне. Я себе самому рассказываю, как пропал человек во мне, каким снова в меня вернулся. Я вытряхиваюсь; я, бывший, ищу, ищу… Я видел очень и очень много! Перечувствовал еще больше. А какая романтика! Что за ощущения прощаний – со всем, со всем!.. – от писем молодости, от исчерченного каракулями стола, от каждой пустой вещички, на которой остались отблески и изъянцы жизни, лепеты прошлого, печальные взгляды и улыбки и которая скорбно просит – возьми с собой! – до последнего взгляда на пороге, где нога не хочет переступить, до поворота, откуда уже не видно родного пепелища, деревьев сада, пустой скамейки на бугорке, под елью… – до проселка в пустых полях, помутневших к ночи; до неба, которого нигде не встретишь, и до звезды, светящей над головой: одна она всюду пойдет с тобою, будет тревожить тебя ночами, слезу вырывать сверканьем, тянуть за собой – домой.