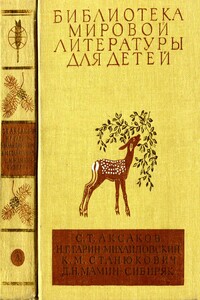— Вот, вот, вот… Дядя, дорогой мой, как я рад вас видеть… Я ценю все: вы не побрезгали поцеловаться, я целую вашу руку.
Дядя не успел отнять руки.
— Ну, ей-богу же, сумасшедший!
— Вы не хотите видеть водки? Вот она!
Карташев швырнул бутылку за фортку.
— Вы не хотите, чтоб я пил? даю вам честное слово, что не буду… Вы хотите, чтоб я шел к доктору? Иду! Вы, наконец, с дороги хотите чаю, кофе? Сейчас все будет.
Дядя стоял растроганный и, качая головой, шептал удрученно-ласково:
— Дурень ты, дурень…
Карташев вдруг бросился на кровать и, безумно рыдая, уткнулся головой в подушку.
— Тёма, Тёма, Христос с тобой… дитятко мое дорогое!
Дядя ловил его голову, целовал ее, и слезы текли по его щекам.
— Я изболелся, — рыдал Карташев, — я изболелся… Я измучился, все порвалось во мне… все живое рвется, рвется… А-а-а…
Это были вопли и крики такого страдания, такого отчаяния, какое не требовало объяснений и было понятно доброму, маленькому, с большим рябым лицом человеку. Он сам плакал горько и жалобно, как плачут только или дети, или очень добрые, с золотым сердцем люди.
Они были у доктора, и старик доктор, осмотрев Карташева, долго качал головой.
— Организм ослаблен. Здесь в Петербурге оставаться немыслимо… на юге, конечно, может быть… Во всяком случае, не теряя времени надо уезжать.
Выйдя от доктора, Карташев, мрачный и упавший духом, заявил дяде:
— Я не поеду никуда, а тем более к матери.
— Умрешь.
— Умру, — глухо, безучастно повторил Карташев.
Дядя ушел и обдумывал, как помочь новому горю. Приехав домой, он послал срочную телеграмму сестре. К вечеру получена была на имя Карташева следующая телеграмма:
«Если Тёма не хочет маминой смерти, он немедленно приедет. Наташа».
Карташев повертел телеграмму и мрачно произнес:
— Еду…
Послали телеграмму о выезде и приступили к сборам. Выкупили вещи, часы. Тысячи в три обошелся этот год, и еще рублей триста истратил дядя на выкуп вещей, уплату долгов. Он только качал головой. Перед отъездом дядя пожелал, чтобы Карташев свез его к Казанской божией матери.
— Лучше сами поезжайте: я ведь неверующий… хотя и молюсь… — прибавил Карташев, подумавши.
— И молись: сегодня не веришь, завтра не веришь, а все-таки придет твой час.
— Пожалеет наконец господь?
— Пожалеет.
Дядя настоял на своем, и Карташев поехал с ним в Казанский собор. Там под громадными сводами звонко отдавались их шаги, и дядя, с большим вытянутым лицом, испуганно спрашивал племянника:
— Тёма, где икона?
Карташев оглянулся и показал на одну из икон.
Дядя, запасшийся целым пучком свечей, подошел благоговейно к иконе, поставил свечи и, стоя на коленях, стал читать молитвы.
Карташев стоял в стороне и безучастно смотрел на образ.
— Ежели Казанской, — шепнул ему на ухо сторож, — то не тому образу молятся они…
Карташев быстро подошел к дяде и смущенно сказал:
— Дядя, я ошибся: вон тот образ.
Дядя, оборванный в разгаре молитвы, вскочил и с непривычной горячностью накинулся на племянника:
— Ну, ведь это же просто бессовестно! Ну, что же это? ткнул куда-то… Ну, ей-богу, просто на смех… так вот, чтобы только издеваться…
— Дядя, голубчик, ей-богу же, я не виноват… Честное слово, не нарочно…
— Э! Терпеть уж этого не могу… Ну, где же настоящая?
— Вон, вон…
— Опять что-нибудь окажется?
— Верно, настоящая, — кивнул головой сторож.
— И свечи все истратил!
Дядя мелкими шажками пошел купить новых свечей и направился к указанному образу.
Карташева разбирал смех, но он удерживался, и, когда дядя кончил молиться, он с серьезным лицом пошел рядом с ним из церкви. Дядя шел озабоченно-торопливо и с упреком говорил племяннику:
— Нельзя, нельзя, голубчик, без бога.
— И я говорю, — ответил Карташев, кивнув головой.
— Говоришь, а что делаешь? Не ты один, конечно: все ваше поколение.
— У всякого поколения свой бог…
— У тебя какой?
— У меня нет, и потому я не поколение.
— Кто ж ты?
— Китайский навоз… Там четыреста миллионов каждого поколения уже две тысячи лет насмарку.
Карташев переменил разговор.
— Бросил пить, и ни капли не тянет. Хотите, брошу опять курить? Бросаю, честное слово…
Дядя даже рассмеялся, увидя, как Карташев пустил по улице свою табачницу.