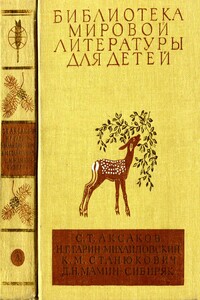Карташеву вдруг ярко вспомнилась картина из раннего детства, когда к его матери привели убежавшего из бывших крепостных поваренка Якима; Яким стоял в ожидании барыни: губы его были белые, голубые глаза совершенно бесцветны, он то и дело встряхивал своими кудрями. Так и он, Карташев, ни на кого теперь не смотрел, был бледен, вероятно, как смерть, сердце громко билось в груди. Какие-то тяжелые шаги: целая процессия… Дверь тихо отворилась.
Как сквозь сон, смотрит Карташев лениво, апатично, тяжело, как сквозь сон, видит какую-то белую маленькую старушку. Неужели это мать? Ее ведут: с одной стороны дядя, с другой — бледная как смерть Наташа.
Он поднялся и пошел медленно навстречу к матери. Мать остановилась, и страшные глаза уставились в него.
— Я думала, — сурово отчеканивая слова, заговорила Аглаида Васильевна, — что вырастила мужественного, честного, любящего, не разоряющего свою семью сына, а я вырастила…
— Мама! не говори… — дрожащим голосом сказал Карташев.
— Мама, не надо… — умоляюще, как эхо, повторила Наташа.
Наступило молчание. Надо было что-то делать.
Карташев, думая, что мир лучше всего, нагнулся к руке матери. Это тупое равнодушие павшего сына резнуло Аглаиду Васильевну по сердцу. Она растерянно поцеловала воздух, но потом голосом тоски, смерти, страдания, отвращения проговорила:
— Я не могу…
Она повернулась было назад, но взгляд ее остановился на образе в углу, и, упав перед ним на колени, она страстно в отчаянии воскликнула:
— Господи, за что же?! За что позор за позором валится на мою голову?!
И глухие рыдания ее понеслись по комнате.
Наташа и дядя подняли ее и увели в спальню. Карташев никогда не вдумывался, как именно произойдет встреча с матерью. Теперь она произошла. Очевидно, мать знала все… Меньше всего он ожидал, что вызовет к себе только чисто физическое отвращение. Он стоял раздавленный и растерянный. Но, оглянувшись и увидев вдруг в дверях передней Горенко, которая манила его пальцем к себе, он, ничего уж не соображая, как она очутилась здесь, думая только о том, чтобы не выдать своего смущения, скрепя сердце, с выражением пренебрежения ко всему, пошел к ней.
Они прошли переднюю и вошли в кабинет.
Все тот же кабинет: и ружья по стенам, кровать и диван и смятые постели на них. Он только теперь заметил, что Горенко еще не причесана и одета наскоро: она, значит, ночевала у них. Он знал, что перед отъездом в Сибирь она по своим денежным делам должна была приехать на родину. Очевидно, она остановилась у них.
— У вас кровь на щеке, вытрите, — сказала Гаренко, с слегка брезгливым чувством отворачиваясь от него.
Карташев вспыхнул, быстро вынул платок и начал перед зеркалом осторожно прикладывать его к ранке. Мысль, какое он должен был произвести удручающее впечатление, тяжело навалилась на него. «Какая каторга, зачем я приехал?» — мелькало в его голове.
— Вчера ночью Маню отвели в тюрьму, — угрюмо проговорила Горенко.
Карташев растерянно присел на край дивана: сцена с матерью осветилась вдруг совершенно иначе. Теперь он понял ее. Машинально повторил он слова матери:
— Какой позор!..
Горенко сразу потеряла самообладание.
— Не позор!! — быстро вспыхнув, бросилась она к нему. — Не позор… Позор не в этом, не в этом. И вы знаете, в чем позор… не смеете фальшивить… Не смеете: старикам оставьте их комедии — глупым, тупым, неразвитым эгоистам… А вы только эгоист, но сознающий! От своего сознания никуда не денетесь… Лгите другим, но не смейте лгать здесь…
Карташев, как во сне, утомленно слушал. Это говорила та, которая когда-то в гимназии была влюблена в него. Стоило ему тогда сказать ей только слово, и она пошла бы за ним, куда бы он только ни захотел. Но они разошлись по разным дорогам и теперь опять случайно встретились. Она стояла перед ним, глаза ее сверкали, тонкая кожа обыкновенно бледного лица залилась румянцем и раскраснелась. Она стояла, наклонившись вперед, стройная, точно сжигаемая каким-то внутренним огнем. Откуда у нее эта жизнь, сила, красота? Такой он ее не знал тогда. В такую он, может быть, влюбился бы больше, чем во всех тех, в кого был влюблен.