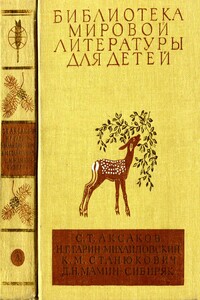Сикорский пробыл с Карташевым только полдня и, выписав ему репера, тоже уехал.
В распоряжении Карташева остался Еремин, семь рабочих, в том числе Тимофей и Копейка, а также и старший Сикорский.
Но старший Сикорский, с отъездом Пахомова и брата, только раз лично привез провизию Карташеву.
Держал он себя при этом важно, читал нотации Карташеву, что у него много выходит и что, вероятно, Тимофей ворует у него и в конце концов, ссылаясь на то, что брат его куда-то теперь командирован и что у него вышли подотчетные деньги, взял у Карташева двести рублей. О раньше взятых ста Сикорский не заикался.
Вместо Сикорского приезжал Никитка и, подражая Сикорскому, тоже изображал из себя недовольного хозяина. Провизию он привозил все худшую и худшую, и наконец Карташев, после совещания с Ереминым и Тимофеем, сказал Никитке, чтобы он больше не возил провизии и не ездил к нему.
— Вы разве нанимали меня? Хозяин вы, что ли, чтоб мне приказывать? — нахально спросил Никитка.
— Хозяин!! — заревел Карташев, и глаза его налились кровью, а руки сжались в кулак.
Никитка не стал испытывать больше его терпенье, вскочил в тарантас и уехал. А Карташев, придя в себя, был смущен охватившим его вдруг бешенством, но при воспоминании об испуганной физиономии Никитки испытывал удовлетворение и думал: «Будет на следующий раз ухо востро держать, да и остальные видели, что ласков и покладлив я, когда хочу и когда со мной не нахальничают…»
На восьмой день Карташев подходил к городу, сделав в среднем по двенадцать верст. Раз сделал он семнадцать верст, но двадцать две, о чем рассказывал ему Сикорский, он так и не мог сделать. Он утешался, что Сикорский сделал это в степи, беря взгляды по двести сажен в обе стороны, в то время как при здешней местности не выходило и ста. Да при этом вследствие неопытности приходилось часто возвращаться назад вследствие несходности отметки с отметкой репера.
При этом он каждый раз мечтал, что накрыл на этот раз Сикорского. Но проверка опять показывала, что он опять ошибся. Так ни разу и не накрыл он Сикорского. Теперь, подходя к городу, он рад был этому, потому что знал, что этим обрадует Сикорского.
Уже на расстоянии тридцати верст от города он видел толпы рабочих, землекопов, развозимый материал. Топтались поля, кукуруза, виноградники. В одном месте через сад тянулась сквозная просека. На земле валялись срубленные яблони, груши — с массой зеленых плодов на них. Садилось солнце и золотой пылью осыпало деревья, и ослепительные лучи горели между листьями. Где-то мелодично куковала кукушка, и Карташев насчитал семнадцать лет остающейся еще ему жизни. Это было слишком много, и Карташеву с ужасом представилась его сорокадвухлетняя фигура. Уже тридцать лет казались ему какой-то беспросветной и безнадежной старостью.
Безмятежным покоем вечера веяло от садов и дач, Днестра и неба, с его золотистыми переливами, с его голубыми перламутровыми облаками. Точно воды протекли и оставили песчаный свой след. Но песок был яркий, блестящий, с переливами всех цветов. И только там, под солнцем, вплоть до горизонта был однообразный нежно-золотистый тон.
Из какого-то густого сада и домика в нем Карташева окликнул голос младшего Сикорского, и сам он показался на улице.
— Ну, здравствуйте, сошлось?
— Совершенно сошлось! — радостно говорил Карташев, горячо пожимая руку Сикорского. — Несколько раз думал было вас накрыть, но так и не выгорело.
Сикорский весело смеялся.
— Ну, довольно. Здесь уж строят, и тридцать верст отсюда уже была вторая нивелировка. Идем к нам, я вас познакомлю с сестрой и зятем.
Карташев оглянулся на свой костюм. Правда, он уже третий день одевал панталоны, а сегодня надел и куртку, но и куртка и панталоны изображали из себя теперь только грязные лохмотья, да при этом изгрызенная, поломанная шляпа, истоптанные, с перекошенными на сторону высокими каблуками сапоги, которые он надел, так как в лаптях ходить по городу и совсем было неудобно. На мягких полях эти свороченные на сторону каблуки еще не так давали себя чувствовать, но на твердой мостовой он при каждом движении чувствовал и боль и неудобство ходьбы.