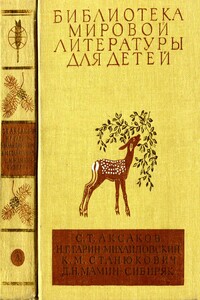К вечеру еще похолодело и сильнее пахло осенью.
Садилось солнце. И из-за туч какими-то густыми, с красноватым отблеском, лучами освещало и пруд, и сад, и всю на виду теперь усадьбу.
Было что-то бесконечно грустное в этих тонах заката, в безмолвии, холодно сверкавшем пруде, окруженном скалами, над которым взвивались и кричали орлы.
Зина сидела и с горечью смотрела на усадьбу, зная, что она никогда уж не увидит в жизни этого уголка, и думала, зачем она его видела, зачем здесь жила, зачем погибли шесть лучших лет ее жизни, похороненные здесь в этой могиле, и не только могиле шести этих лет, но и всех радостей ее жизни, всех иллюзий, всех надежд.
Она страстно и горько сказала брату:
— Будь все это проклято, будь проклят виновник моей разбитой жизни!
Она замолчала; молчал и Карташев. Село солнце, и заволакиваемая сумерками и угрюмо, точно в тон мыслям, молчала округа.
Зина прервала молчание.
— Боже мой, какая нелепая жизнь! И зачем надо было меня выдавать замуж?
Она еще помолчала.
— Если бы не ты, он убил бы уж меня сегодня… и я ничего бы не испытывала больше!
В голосе ее как будто звучало сожаление.
— Что произошло у вас?
— Э, он стал совершенно невозможным человеком. Весь род его такой выродившийся… Ты себе представить не можешь, какой это ужасный, какой извращенный человек!.. Какой ад я переживала с ним! Он всегда меня упрекал в холодности. Он судил по своей развращенной натуре и не допускал мысли, что я такова по природе. В его развратном, расстроенном воображении всегда гнездятся самые ужасные предположения… Он мне в глаза клялся, что поездка, например, к маме — предлог для того, чтобы в большом городе отдаваться самому ужасному разврату. Это я-то. Он рассказывал, что у него там есть они, которые ему и доносят всю эту ерунду. Наконец, что иногда он сам, переодетый, следит за мной и знает все отлично. Наконец, сегодня утром дошел до того, что… а… стал упрекать меня в связи с каким-то мужиком здешним… Вытаращил свои сумасшедшие глаза и кричал мне на весь дом: «Я сам своими глазами видел, и пускай весь мир провалится, пусть сам бог придет и скажет, что нет, я и ему не поверю». От этого гнусного оскорбления у меня в глазах потемнело, и я даже не знаю, как я его ударила… Но, слава богу, слава богу, теперь конец… Еще раньше я получила от него заграничный паспорт… Он твердо убежден, что и заграница мне нужна исключительно для удовлетворения моих всепожирающих страстей, и в периоде самоунижения жалобно твердит: «Я со всем мирюсь и прошу только об одном, чтобы не на глазах». Ведь он, негодяй, ездил ко всем и рассказывал все свои клеветы, изображая себя жертвой… Прекрасный человек, несущий терпеливо свой крест. Его знакомых я видеть не могу, потому что знаю, что он им наклеветал все, что можно… И как клевещет! Какие комедии разыгрывает! Боже мой, от одной мысли, что это ужасное свое свойство он передал и детям, я начинаю их ненавидеть, и моя жизнь такая ужасная, такая ужасная!
Из опасения, чтобы не было погони, ехали без остановки. Когда подъехали наконец на рассвете к станции, все та же пара прекрасных лошадей, когда-то гордость Неручева, дрожала от утомления, и кучер Петр с грустью говорил:
— Пропали кони, загнали коней.
Поезд, с которым ждали Неручеву с детьми, приходит в шесть часов.
Выехали встречать Зину все.
Ее увидали уж в окошко, и Маня, Аня и Сережа побежали с криком:
— Зина, Зина!
Красивое, суровое лицо Зины смеялось; она улыбалась и кивала головой.
Когда остановился поезд и появилась Зина и детки с бонной и няней, на них накинулись и стали целовать сразу по два — один в одну щеку, другой в другую.
Пока старший шестилетний мальчик радостно подставлял свои щечки, младший трехлетний Ло, кличку которого дал ему его старший брат, не обнаруживал никакой радости, начал огорченно и озабоченно рассказывать Мане о своих невзгодах.
Маня завизжала от восторга, вслушивалась в его воркотню и только отмахивалась от остальных, крича:
— Постойте, постойте!
Мальчик удивительно чисто и гладко, совершенно ровным и как падающая дробь голоском рассказывал, как он себе ехал и никого не трогал, и как тем не менее к нему приставали и один пузатый и один лохматый, и одна женщина его поцеловала.