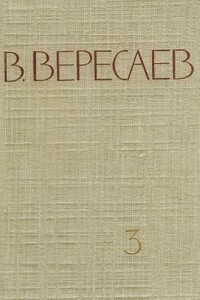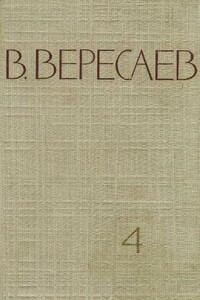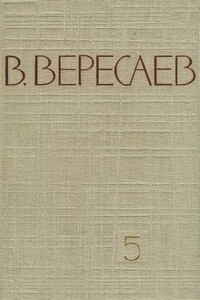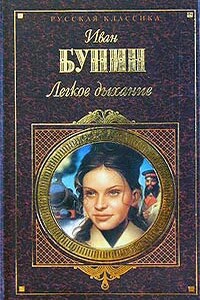Я припоминал.
– «Крест и меч – одно и то же»… Чье это? Что-то знакомое.
– Это сказал один русский длиннокудрый философ[44] воспевая всеевропейского позера с торчащими кверху усами[45].
Наследник меченосной рати!
Ты верен знамени креста;
Христов огонь в твоем булате,
И речь грозящая свята.
Полно любовью божье лоно,
Оно зовет нас всех равно…
Но перед пастию дракона
Ты понял: крест и меч – одно.
Маленькие люди, с мелким, трусливым сердцем, боявшиеся широкой жизни… Желтая опасность, нашествие новых гуннов, японско-китайский богдыхан в Париже… Бррр! Какая пошлость и глупость! Как просто рисуется: все эти рабы Неба и Восходящего Солнца переймут у нас скорострельные пушки, мины Уайтхейда и захлестнут Европу своею дикою волною. Но история – опытный учитель, она ставит свои уроки удивительно наглядно. Из всех европейцев она выбрала именно нас, невежественных, нищих духом рабов, и показала Востоку, что мало пушек и мин, что прежде всего нужны свободные, богатые духом люди… И только тогда, положив в основу всю нашу культуру, Восток действительно станет страшен Европе, а тогда… тогда, я вас спрашиваю, чем же он нам станет страшен? Мы можем подраться с англичанином или немцем, а все-таки и англичанин и немец братья мне по целям, к которым стремится человечество. И чем же меньше будет мне братом японец, китаец или индиец? Только шире станет жизнь, шире и разнообразнее. Ведь этот спящий Восток удивительно глубоко гениален, и он много своего внесет в развивающуюся жизнь. Но внесет он только тогда, когда войдет в нашу семью свободным и познавшим основу жизни, умеющим во всякую минуту постоять за себя.
Стемнело, ветер утих. На север убегали последние почерневшие тучи, в глубине неба все ярче и гуще загорались лучистые звезды. Капитан молчал, подняв плечи и засунув озябшие руки в рукава шинели.
И снова он заговорил – нежно и задумчиво: – Вам никогда не приходило в голову? Вот вы смотрите на звезды: миллионы солнц, вокруг них без счета ходят невидные нам миры. На одних жизнь уже отжила, на других в полном расцвете, на третьих только еще зарождается. На миг-вечность жизнь вспыхивает то здесь, то там. И везде дух стремится, борется, ищет… Сколько на каждом из миров вырабатывается правды, красоты! И все это гибнет на месте, – одинокое, не переданное дальше, для себя лишь существовавшее. И каждый мир начинает все сначала. Как это обидно, как горько-обидно!.. И вот рядом с нашим миром оказывается такой же чуждый мир, но доступный, здесь, под руками. Много мысли, много красоты и правды, только все это уже спеклось, ссохлось, замерло. Но брызнет живая вода, и все оживет, зашевелится!.. И как будет интересно, как интересно будет!
Может быть, именно он, этот чуждый мир, прошедши наши муки, искания и сомнения, претворит их в великую, божественную тишину. И мы все преклонимся перед нею. А пока… брр! Как холодно! Пойдемте, доктор, ко мне чай пить, кипяток, должно быть, уж готов. У меня коньяк есть. А завтра на заре – хуай-ла-ла (уходи) дальше.
Мы спустились с горы и вошли в большой двор фанзы. Везде горели костры, несся треск ломаемых солдатами загородок и крыш.
В дымных сенях навстречу нам вышла старая китаянка с длинным чубуком в руках. На своих маленьких, изуродованных ножках она колеблющеюся походкою подошла к нам, умоляюще опустилась на колени и коснулась лбом земли.
– Капытан! Ява, ява! люсска сольдата ява!
Лицо капитана сморщилось. Он озлобленно ответил:
– Что такое «ява»? Не понимаю я… Ничего, матушка, не могу сделать! Деньги тебе заплатим, чэн! Чэн плати, тунда (понимаешь)?.. Сами вы виноваты! Чего смотрели, чего допустили, что с вами все это проделывают? Погодите, скоро многому научитесь!
И он пошел в фанзу.
1905