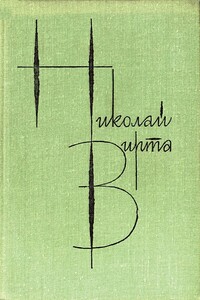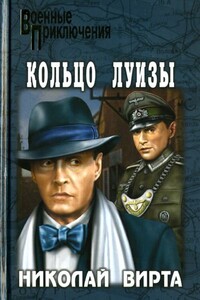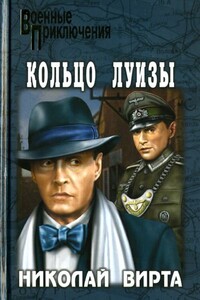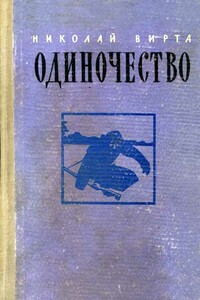— Зато при Советах мало брали! Довольно, поигрались! А не хотите — езжайте за тридцать верст.
Мужики пришли в комитет.
Фрол Петрович вызвал Селиверста.
— Ты что это мародерствуешь?
— Помолчи, — пробурчал Селиверст. — А вона ваш же комитетчик Федот просорушку пустил — сколько берет? Небось не прогадывает?
Фрол Петрович развел руками: дескать, не сдается мельник, почтенные старики, его власть.
Старики поехали в Грязное к Сторожеву. Петр Иванович вызвал Фрола Петровича и Селиверста.
— Двадцатую меру брать, — приказал он мельнику. — Не то Антонову пожалуюсь.
Селиверст зло посмотрел на Сторожева и объявил, что мельницу закроет.
Сторожев хрустнул пальцами. Не дело мельницу закрывать — чем полки снабжать?
Ладились с Селиверстом битый час — насилу усовестили. Согласился мироед на шестнадцатой мере.
Комитет объявил было вольную торговлю, в селе лишь посмеялись — чем торговать: молоком, что ли?
Школа пустовала. Баптист-председатель собрал мужиков: надо-де школу бы открыть. Но чему учить? Где учителя взять? Опять же насчет божьего закона — от Антонова никаких приказов насчет бога не поступало: отменили его ай он еще жив-здоров?
Мужики покряхтели, покурили и разошлись.
Во всем прочем комитет распорядился толково: попу мирским приговором вернули тридцать три десятины церковных земель, и дьякону тоже, и псаломщику. Фрол Петрович бесился, мир матюкался, но баптист помянул о том, какие друзья Петр Иванович с попом, и старики замолчали.
Выучились, дьяволы, слушаться!
Крепко заботился баптист и о том, чтобы очистить село от всякого соблазна.
Однажды вечером к жене уехавшего на станцию Никиты Семеновича пришел сам председатель комитета и два милиционера, приказали Пелагее завтра же уходить из села, пообещав в противном случае в щепки разнести избу. Пелагея, рыдая, упрашивала отменить приказ: без рук и глаз останется, мол, хозяйство, коровы и овцы, куры и гуси. Баптист дал ей три часа на сборы и ушел. Пелагея завернула в узел самое что ни на есть лучшее в доме — одежду, белье — и отправилась в путь. Близ кладбища ее задержали милиционеры, узел отобрали, вернули два платья и велели, не оборачиваясь, уходить.
Таким же манером комитет выпроводил из Двориков Матвея Бесперстова и всех, кто был некогда замечен в дружбе с коммунистами. Все добро выселяемых людей баптист отправлял в волостной комитет, но и себя не забывал: щедро возмещал протори, что нанесли ему красные, — у него была своя кузница, Листрат ее отобрал.
5
Сторожев, взяв Токаревку и пробив брешь в обороне красных, неуклонно продвигался на юг. Но однажды ему не повезло: под Хопром отряд его был почти целиком уничтожен.
На обратном пути, взбешенный неудачей, Сторожев ворвался в маленький коневодческий совхоз.
Было дело ночью, падал редкий снег.
Антоновцы порубили охрану, схватили начальство. Заведующий совхозом не успел одеться, сидел в подштанниках, по лицу текла кровь: один из людей Сторожева, отнимая у него наган, ударил его прикладом по голове.
Сторожева в схватке ранили в плечо, рука повисла как плеть, он был свиреп, как никогда.
— Коммунист? — спросил он заведующего.
Тот утвердительно кивнул головой.
— Судить будем, — решил Сторожев. — Собрать народ!
Конники будили тех, кто спал, тащили людей из соседнего села, ударили в набат. С постели подняли помятого сном попа; он приплелся с епитрахилью и святыми дарами.
Народ согнали в контору совхоза; иззябшие, испуганные люди дрожали. Два фонаря, принесенные с конюшни, освещали похожее на сарай помещение — грязное, заплеванное.
Сторожев пошептался с попом и назначил судьями трех мужиков — на них показал поп как на надежных людей.
Два старика и средних лет бритый крестьянин, бледные и угрюмые, слушали Сторожева, вытянувшись в струнку.
— Чтобы судить, как совесть подскажет, — внушал он судьям. — А там сами понимайте, что к чему.
Ввели совхозное начальство: руки у всех связаны, за спиной каждого — вохровец.
Допрос начал Сторожев. Шорох и шепот смолкли. Слышно было, как потрескивало в фонарях пламя.
— В бога веруешь? — спросил Петр Иванович заведующего.
— Ни в бога, ни в черта. И больше отвечать тебе не буду.