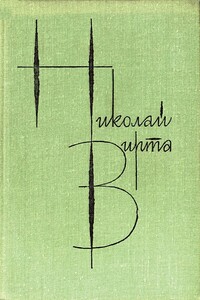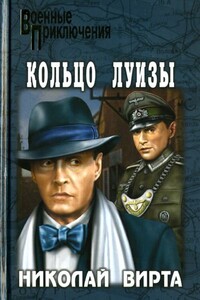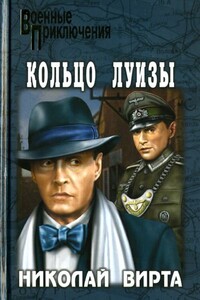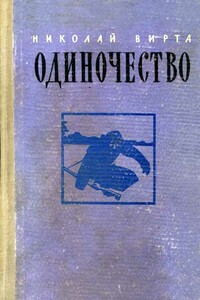Не любил Петр Иванович рвани с Дурачьего конца — с улицы, где голь нужду мыкала, но мальчонка ему понравился: смышленый, бойкий, в теле, жрет, поди, немного. Покобенился, поломался для виду, но взял парня. Лешкина мать в церкви за Петра Ивановича три свечки поставила.
Нещадно драл Лешку Сторожев за всякую провинность, да и без провинности попадало, ежели в сердитую минуту подвернется под руку. Лешку мальчишки дразнили Сеченым до тех пор, пока он огромному, старше его лет на пять, Сашке Чикину не разворотил в драке скулу.
Рос Лешка в семье как шестой сын.
Никого из сыновей своих не любил Сторожев так, как младшего Митьку. Старшие все нашли место в хозяйстве, каждый отрабатывал отцовский хлеб. Росли в отца, хозяйственные, большие парни, крепкие работники. Глаза у всех быстрые, руки проворные, жадные.
— Роди, роди, мать, больше, — говорил Петр Иванович жене. — Эк ты у меня какая гладкая!.. Роди сынов — работников. С голоду в старости не помрем. У кого-нибудь угол сыщем.
Рожала Прасковья быстро, с какой-то грозной поспешностью.
— Точно пули вылетают, — смеялся Петр Иванович. — Ну и силища у тебя, мать, в нутре.
А вот Митька трудно рожался. Прасковья лежала посиневшая, широко раскрыв глаза, страдальчески вздрагивали губы, и тело извивалось в страшных муках.
Оттого ли, что пал духом Петр Иванович, оттого ли, что дрожало что-то внутри за жену, только когда Митька с пронзительным криком, ослепленный холодным, блистающим декабрьским днем, вышел из материнского чрева, Сторожев забыл сказать обычные слова о новом работнике, и впервые настоящей отцовской радостью наполнилось его сердце.
Угрюм был Петр Иванович дома, угрюм и молчалив. Лишь один Митька синими глазами и безмятежным смехом скрашивал молчаливые дни отца. Он залезал порой к отцу на колени, щекотал неуклюжей ласковой ручонкой его щеки, захлебываясь, смеялся, когда отец донимал его колючими усами. Он был, как котенок, мягкий, ласковый. Подойдет, бывало, к отцу, запрокинет голову — и вот гляди не наглядишься в его синие глаза: так там безмятежно и тихо, как в лесной заводи, куда не забираются ни ветер, ни буря, где лишь светит солнце и кивают вверху зелеными гривами деревья.
Почему-то больше всех любил Митька батрака.
Лешка любил Митьку, возился с ним, выучил ездить верхом, и в четыре года мальчишка, ухватившись за гриву, скакал на лошади, и она словно понимала, кто сжимает ее бока хрупкими маленькими ножонками. Быть может, зная об этой любви, Сторожев и не прогнал со двора Лешку, когда услышал, что брат его Листрат подался к большевикам.
И Лешка не ушел от Сторожева, словно ничего не случилось, словно бы все шло по-старому. По-прежнему работал он за троих, был весел, слонялся по улицам, загонял девчат в ометы.
Сторожев знал о Лешкиной удали, грозил ему пальцем:
— Ой, изобьют тебя, сукина сына, бабника!
— Куда изобьют, — гоготал Лешка, — сами просятся.
Петр Иванович плевался и отходил, злобно ворча:
— Бес чертов, озорник, гуляка!
После прихода большевиков Петр Иванович все хозяйство поручил Лешке и Андриану — деверю.
Седой Андриан целый день бурчал что-то себе под нос; Лешка ходил по двору, распевая песни, а Петр Иванович сидел дома в переднем углу на лавке, положив на стол тяжелые ладони, и читал, перечитывал Библию, все искал осуждения новым делам и порядкам.
— Вот, — говорил он, — пишет пророк: царствовать им полтора года, а потом придет князь Михаил и погонит их. Вот те и Михаил! Он хоть и Романов, хоть и выродок, да пес с ним, все лучше, чем Серега-братец.
Он никуда не ходил, кроме церкви, с братьями не здоровался, с сыновьями был резок и груб.
И, кроме Митьки, никто его не любил.
3
Сергей Иванович побыл в селе недолго, поднял бедноту, выгреб у тех, кто побогаче, хлеб, а тут на Советы навалились белые генералы. Надел Матрос бушлат, бескозырку с лентами, на прощанье зашел к Петру.
— Ты, брат, на меня не сердись, — начал он. Сторожев даже глазом не повел. — Я думал, когда книжечки тебе возил, что по моей дорожке пойдешь, а ты вон как, в помещики вышел, в Учредительное собрание попер. Ну, ладно! Только смотри, Петр, как родному советую: переломи себя, а то нам ломать вас придется. Больно будет. — И вышел.