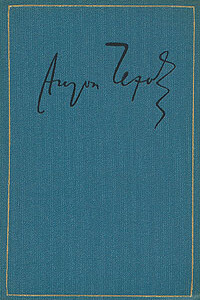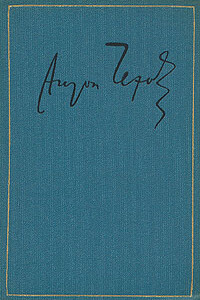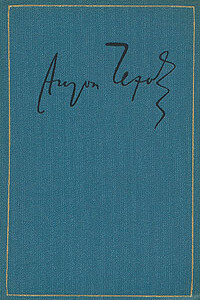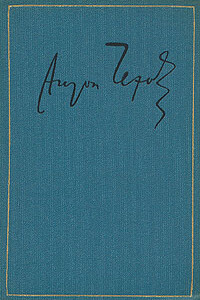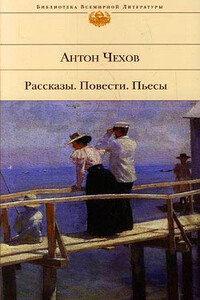Еще и еще больше, чем эти запрещенные предметы, еще глубже их и сильней волновали Василия Петровича беседы о том, что позволено к обсуждению всем, что нигде и никем не запрещено и тем не менее никому и никогда недоступно, ото всех и навсегда сокрыто, — о тайнах мироздания, о загадочных светилах, рассеянных в пространстве, о головокружительном, леденящем умы представлении бесконечности.
[Эти не запрещенные, но опасные сами по себе вопросы, по-видимому, всегда занимали Хлебопчука столько же, как и неудобоисповедная вера, причинявшая беспокойства, заставлявшая его быть всегда настороже: он довольно много читал об этих вопросах, он в них был сведущ, насколько можно быть сведущим в том, чего никто знать не может.] Бледнея от душевной муки и закрывая глаза, говорил он о расстояниях между Землей и ближайшей к ней звездой, какой-нибудь Вегой, попутно объясняя, как мог, как умел, и способы, которыми определяли астрономы расстояния, не постигаемые умом простых людей; и с горячим благоговением вполне убежденного человека он утверждал, глядя на звезды, что люди Земли не одиноки в мироздании, что за миллионами миллионов верст у нас есть соседи, наши подобия, но лучше нас и, быть может, милее для Создателя, чем мы, злые и грешные дети Земли… С знанием дела рассказывал он также о Луне, о Марсе, о Сириусе, которого считал солнцем тех планет, что окружают Сириус, оставаясь незримыми для нас, за дальностью расстояния…
Такие речи были для Василия Петровича не только новы, но и мучительно привлекательны; они вспугивали и терзали его ум, заставляя сердце замирать от ужаса и наслаждения, как от взгляда в бездонную пропасть. Ни о чем таком он не задумывался никогда, до близкого знакомства с Хлебопчуком, до задушевных бесед с ним. Читал он мало вообще, а о каких-либо Фламмарионах не имел понятия даже и понаслышке. И речи Савы открыли перед ним новый, необъятно бесконечный мир, полный и ужаса, и наслаждения.
Долго молчит Василий Петрович, соображая то, что услышал от мудрого и уважаемого Савы Михайлыча, — иногда целый перегон не молвит и слова. Кропотливо взвешивает его слова, старательно обдумывает случаи из собственной жизни, переживая их памятью при новом, звездном и бесконечном свете, загоревшемся для его ума благодаря новому помощнику, разбирает поведение и будничную жизнь сватьев, кумовьев и прочих наших криворотовцев, не исключая и самое начальство… И, наконец, скажет, — как будто их беседа и не прерывалась долгим молчанием.
— Да!.. Это верно: гадины мы! И действительно, что из-за нас одних, мерзавцев, не стоило и огород городить!.. Не стоим мы и внимания господнего по нашей по низкости карахтера… Тьфу! — плюнуть и растереть! — вот мы какие, люди…
Но у мечтателя Хлебопчука, творящего словами над душой Василья Петровича чудеса и то повергающего ее в бездну отчаяния, то восхищающего на седьмое небо восторга, готово уже утешение в горестности безнадежного вывода, к которому привели Василья Петровича его думы; и он спешит преподать это утешение, веря от всего своего мечтательного сердца в сбыточность собственных надежд на лучшее будущее.].
Господь ведет все к лучшему, а не к худу, — [говорит] продолжает он, закрывая глаза [от приятности своих домыслов]. — Теперь[-то как: ] мы грешны и злы, и не любим, а ненавидим своего брата. А в будущем все переменится, люди сделаются как ангелы, станут сильно любить друг друга, избегать зла. Подивитесь, что было до нас за долгие годы, как себе жили люди, наши прародители: разве ж это люди были? Дикари, безбожные людоеды!.. Потом уже стало с ними лучше — пошли и пастыри, и хлеборобы. После того — письмена появились, законы, храмы, святые мученики, которые за своих братьев на смерть шли… Теперь же, посмотрите, все стали уже вместе, сообща: русский, поляк, еврей, немец; все стали сообща думать: негоже воевать, надо всем поломать и побросать оружие, провались оно в пекло!.. О справедливости стали думать, помогать тем, кого постигла лихая година, кормить голодных, прибирать сирот. А в будущем такое будет, что мы и подумать не можем. Как ангелы люди станут, милый мой Василь Петрович!