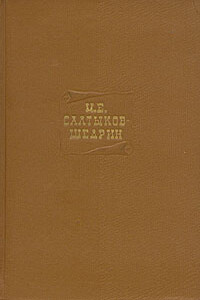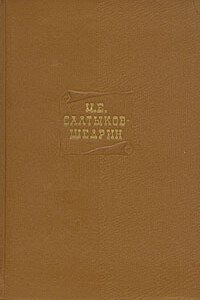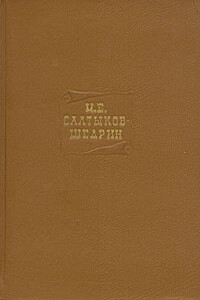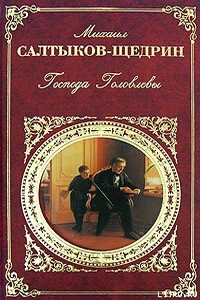Том 15. Книга 2. Пошехонские рассказы - страница 93
Привычке трепетать я обязан послереформенному цензурному ведомству. Я не стану распространяться о том, что̀ именно сделало это последнее, чтобы заставить меня трепетать — похвала живым может быть принята за лесть, — я только констатирую факт. Я знаю, что, с тех пор как мы получили свободу прессы, — я трепещу. Покуда я пишу — я не боюсь. Иногда я даже делаюсь храбр; возьму да и напишу: напрасно, мол, думают некоторые, что благожелательное и ничем, кроме почтительности, не стесняемое обсуждение действий (заметьте аллегорию: я даже умалчиваю, чьих и каких действий) равносильно нападению с оружием в руках… Но как только процесс писания кончился, как только статья поступила в набор, боязнь чего-то неопределенного немедленно вступает в свои права, И она усиливается и усиливается по мере того, как исправляется корректура и наступает час, с которого должен считаться четырехдневный для журналов и семидневный для книг срок нахождения произведений человеческого слова в чреве китовом. Чудятся провинности, преступления, чуть не уголовщина. И в то же время ласкает рабская надежда: а может быть, и пройдет! Я знаю, что это надежда гнусная, неопрятная, что она есть не что иное, как особое видоизменение трепета, но я знаю также, что она не только лично для меня, но и вообще представляет единственную руководящую нить в современном литературном ремесле. Избавиться от нее, правда, очень легко; стоит только забросить перо, распроститься с корректурами и, как чумы, обегать типографии, но вот подите же… Сдается, что, не будь этой надежды, пожалуй, не было бы и русской литературы, а были бы одни «Московские ведомости»…
Само собой, однако ж, разумеется, что я всячески стараюсь скрывать и мой рабий трепет, и мои рабьи надежды. Я — либерал и потому прежде всего стараюсь выказать, что очень хорошо понимаю свои права. «Нет! теперь уже шалишь! — твержу я и устно, и письменно, — теперь цензору до меня, как до звезды небесной, далеко!» И начинаю горячиться, начинаю рассказывать анекдоты из дореформенной цензурной практики и доказывать, что сравнительно мое нынешнее положение… «Помилуйте! да теперь я сознаю себя господином своего слова; хочу — скажу, хочу — не скажу; вспомните, что̀ мы были прежде и чем сделались теперь! Теперь ежели что, так ведь я и тово… Я ведь и сам когти покажу… нет, теперь не так-то легко меня обездолить!» Говорю я все это, даже кричу, чтоб пуще себя ободрить, и — о ужас! — в это же время чувствую, как невидимый трепет ползет по всему моему организму, ползет, ползет и незаметно разрешается сладкой надеждой, что, «может быть, и пронесет»…
Но приятели мои понимают, что все это с моей стороны не больше, как напускное хвастовство, напоминающее те «невидимые миру слезы сквозь видимый миру смех»>*, о которых упоминал еще Гоголь. И так как они — люди русские, веселые, то нередко я служу для них предметом довольно жестоких шуток, канвою которым служат: слухи о преднамерениях и предначертаниях, сведения, почерпнутые «из достоверных источников», канцелярские тайны и проч. Иногда рассказываются даже целые сцены, рассказываются в лицах, так жизненно и с такими характеристическими подробностями, не поверить которым нет никакой возможности. Как тут не вдаться в обман, как не счесть себя погибшим, когда и сам уж заранее, так сказать, признаешь, что погибель есть только снисходительно-отсроченное возмездие за те неключимости, которые, с помощью пера, содеяла правая рука твоя?