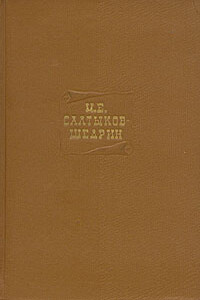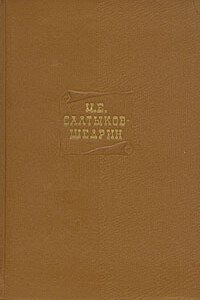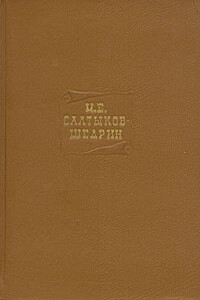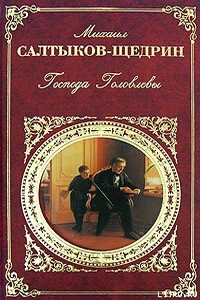Том 15. Книга 2. Пошехонские рассказы - страница 92
— Гм!.. а хорошо бы Шекспира послушать — вот хоть бы на месте г. Шайкевича.>* Как ты думаешь, обелил ли бы Шекспир мать Митрофанию или не обелил бы?
— Полагаю, что обелил бы. Он сумел бы нарисовать и поставить фигуры. Но и за всем тем это было бы только произведение его личного художественного гения, которое, несмотря на свой оправдательный тон, быть может, гораздо сильнее подавило бы мать Митрофанию, нежели даже восхождение на Синай, предпринятое г-м Плевако.>* Да знаешь ли, впрочем! я думаю, что Шекспир одинаково отказался бы и от роли защитника, и от роли обвинителя. Ведь его психология чувствовала себя гораздо свободнее и независимее, имея под руками Гамлета и Ричарда III, нежели тот уголовный матерьял, который украшает скамьи подсудимых в современных судах.
— Стало быть, по-твоему, окончательный-то исход дела зависит от того, кто кого переврет?
— Понимай, как знаешь.
— Так что, ежели я, например, совершая преступление, имею возможность рассчитывать на психологическую помощь Спасовича, то я рискую меньше, нежели другой, которому угрожает психологическая помощь адвоката, назначаемого от казны?
— Стало быть.
— Однако, брат, очень печально!
— Печалься; не возбраняется.
— Ну, хорошо; оставим печаль в стороне и резюмируем наш разговор. Из сказанного тобой выходит: во-первых, что мы не только не воспользовались благами возрождения, но и до сих пор продолжаем жить остатками старинной дикости; во-вторых, что характеристический выразитель этой дикости, травля, не упразднилась, но при помощи психологии получила характер более утонченной жестокости, и притом сделалась, так сказать, à la portée de tout le monde[33]. Так, кажется?
— Верно.
— Теперь, спрашиваю тебя, ответь мне по совести: как же, по твоему мнению, в этом случае поступить? что нужно сделать, чтоб избежать этого?
Я формулировал этот вопрос не без торжественности. По моему мнению, все человеческие стремления, негодования, анализы, утопии — все это приводится к вопросу: прекрасно, но как в сем случае поступить? Поэтому я надеялся настигнуть Глумова в последнем его убежище, заставить его перенести дело на практическую почву и затем уж поговорить по душе о перемещениях и увольнениях, о разъяснении такой-то статьи и дополнении такой-то… Но, к удивлению, Глумов не только не тронулся моею торжественностью, но даже отнесся к ней как бы иронически.
— Прежде всего, — сказал он, — я не вижу никакой надобности «поступать». А потом, ведь под словом «поступать» нельзя же разуметь исключительно: совершить мероприятие, предписать, воспретить, дозволить. Констатировать факт — тоже значит «поступать». Вот я и «поступаю», то есть констатирую факт.
IV>*
Я — русский литератор и потому имею две рабские привычки: во-первых, писать иносказательно и, во-вторых, трепетать.
Привычке писать иносказательно я обязан дореформенному цензурному ведомству. Оно до такой степени терзало русскую литературу, как будто поклялось стереть ее с лица земли. Но литература упорствовала в желании жить и потому прибегала к обманным средствам. Она и сама преисполнилась рабьим духом и заразила тем же духом читателей. С одной стороны, появились аллегории, с другой — искусство понимать эти аллегории, искусство читать между строками. Создалась особенная, рабская манера писать, которая может быть названа езоповскою, — манера, обнаруживавшая замечательную изворотливость в изобретении оговорок, недомолвок, иносказаний и прочих обманных средств. Цензурное ведомство скрежетало зубами, но, ввиду всеобщей мистификации, чувствовало себя бессильным и делало беспрерывные по службе упущения. Публика рабски восторженно хохотала, хохотала даже тогда, когда цензоров сажали на гауптвахту и когда их сменяли.