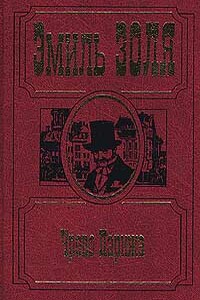Мало-помалу Гюбертина все же подчинила Анжелику своему влиянию. Со своею доброй душой и трезвым умом, спокойная и уравновешенная, величественная и кроткая на вид, она была воспитательницей по самой природе. В противовес гордости и страсти она внушала Анжелике воздержанность и послушание. Жить — это значит слушаться. Надо слушаться бога, слушаться родителей, слушаться всех вышестоящих, — целая иерархия почтительности, вне которой жизнь делается беспорядочной и приводит к гибели. Чтобы научить девочку смирению, Гюбертина после каждого случая бунта наказывала ее, заставляя выполнять какую-нибудь черную работу: перетереть посуду, вымыть кухню, — и пока Анжелика, сначала яростно, а потом покорно, ползала по полу, Гюбертина стояла тут же и наблюдала за ней. Но больше всего беспокоила Гюбертину страстность девочки, ее внезапные порывы неистовой нежности. Не раз ей случалось ловить Анжелику на том, что та сама себе целует руки. Она замечала, что девочка обожает картинки и собирает гравюры на темы из Священного писания, особенно с изображением Христа; а однажды вечером Гюбертина увидела, что Анжелика сидит, уронив голову на стол, и, страстно прижавшись губами к картинке, рыдает как потерянная. Когда же Гюбертина отняла у нее картинки, произошла ужасная сцена: девочка кричала и плакала, как будто с нее живьем сдирали кожу. После этого Гюбертина некоторое время держала ее в строгости, не допускала никаких послаблений и едва только замечала, что девочка возбуждается, что глаза ее горят, а щеки пылают, как сама становилась холодной, молчаливой и загружала ее работой до предела.

Впрочем, Гюбертина открыла и другое средство усмирения — книжку Попечительства о бедных. Раз в три месяца в ней расписывался инспектор, и в эти дни Анжелика ходила темнее тучи. Если она доставала из сундучка моток золотой нитки и ей случалось увидеть на дне розовую обложку, она каждый раз чувствовала, как что-то подступает у нее к сердцу. Как-то раз, когда Анжелика с самого утра была в злобном раздражении и с ней никак не могли сладить, она яростно рылась в сундучке, книжка попалась ей на глаза, и девочка вдруг замерла, уничтоженная, рыдания сдавили ей грудь, она бросилась к ногам Гюберов, униженно лепеча, что напрасно они ее взяли, что она не стоит того, чтобы есть их хлеб. С тех пор мысль о книжке часто удерживала ее от гневных выходок. Наконец Анжелике исполнилось двенадцать лет — наступил возраст первого причастия. Дикое растеньице, вырытое неизвестно где и пересаженное на плодородную почву таинственного маленького садика, медленно выправлялось и выравнивалось в спокойном воздухе этого дома, дремлющего под соборной тенью, благоухающего ладаном, дрожащего от звуков церковных хоров. Все способствовало этому выправлению: размеренное существование, каждодневный труд, полная оторванность от внешнего мира, — ибо даже малейшие отзвуки жизни сонных улиц Бомона не проникали сюда. Но в особенности — царившая в доме атмосфера мягкой нежности, которую создавала любовь Гюберов, словно возросшая от неизлечимых сожалений. Для него было делом всей жизни заставить ее забыть нанесенное ей оскорбление — женитьбу на ней против воли ее матери. После смерти ребенка Гюбер ясно почувствовал, что жена обвиняет его в этой потере, и всеми силами старался заслужить прощение. Она уже давно простила его и обожала мужа. А он по временам еще сомневался в этом, и сомнение отравляло ему жизнь. Чтобы получить уверенность, что упрямая покойница смилостивилась наконец над ними, он непременно хотел иметь еще одного ребенка. Второй ребенок — залог материнского прощения — был единственной их мечтой; Гюбер жил в постоянном преклонении перед женою, создал культ из своего обожания; это была та пламенная и чистая супружеская страсть, что походит на бесконечное жениховство. В присутствии воспитанницы Гюбер не решался поцеловать жену даже в волосы. Но в спальню он входил после двадцати лет супружества смущенный и взволнованный, точно молодожен в первую брачную ночь. И эта скромная спальня, белая с серым, оклеенная обоями с голубыми цветочками, обставленная ореховой мебелью, обитой кретоном, хранила их тайну. Никогда оттуда не доносилось ни звука, но нежность исходила из спальни, разливаясь по всему дому. И Анжелика, купаясь в этой любви, вырастала страстной и целомудренной.