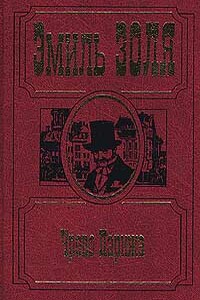Тогда, обезумев от гнева, Фелисьен потерял всякую сдержанность. Он заговорил о матери. Это она воскресла в нем и заявляет его устами свои права на любовь. Разве отец не любил ее? Значит, он радовался ее смерти, раз он может быть таким жестоким к тем, кто любит, кто хочет жить! Но пусть он окружает себя холодом религиозного самоотречения, все равно мертвая жена восстанет из гроба, будет преследовать и мучить его за то, что он мучает ее дитя. Она любила жизнь, она хочет жить вечно в детях и внуках, а он вновь убивает ее, ибо запрещает сыну жениться на своей избраннице и тем прекращает свой род. Нельзя посвящать себя церкви после того, как уже успел посвятить себя женщине. И Фелисьен бросал в лицо неподвижному, замкнувшемуся в страшном молчании отцу обвинения в убийстве, в клятвопреступлении. Потом, сам испуганный своими словами, он убежал, шатаясь.
Оставшись один, монсеньер, словно пораженный кинжалом в грудь, тяжело повернулся и бессильно опустился коленями на молитвенную скамеечку. Хриплый стон вырвался из его груди. О, страдания слабого сердца, непобедимая немощь плоти! Он все еще любит эту женщину, эту неизменно воскресающую покойницу, любит, как в первую брачную ночь, когда он целовал ее белые ножки; он любит и сына, как ее отражение, как оставленную ему частицу ее жизни; и эту девушку, эту отвергнутую им молоденькую работницу, он и ее любит той же любовью, какую питает к ней сын. Все трое терзали его ночами. Хоть он и не признавался себе в этом, она растрогала его еще в соборе, эта маленькая вышивальщица, такая простодушная, благоухающая юностью, с золотыми волосами и нежной шеей. Епископ мысленно видел ее вновь, скромную, чистую, обезоруживающе покорную. И этот образ, подобно угрызению совести, преследовал его, овладевая всем его существом. Вслух он мог отвергать эту девушку, но про себя знал, что она держит его сердце в своих слабых, исколотых иголкой руках. И пока Фелисьен безумно умолял отца, епископу чудились позади его белокурой головы головки обеих любимых женщин — той, которую он оплакивал, и той, что умирала от любви к его сыну. И, рыдая, не зная, в чем обрести опору, истерзанный отец умолял небо дать ему силы вырвать из груди свое сердце, ибо это сердце уже не принадлежало богу.
Монсеньер молился до самого вечера. Когда он вышел из церкви, он был бледен как смерть, измучен, но полон решимости. Он ничего не мог поделать, он повторил все то же ужасное слово: «Никогда!» Один бог имел право изменить его волю, и он молился, но бог молчал. Нужно терпеть.
Прошло два дня. Обезумевший от горя Фелисьен все время бродил вокруг домика Гюберов в ожидании новостей. Каждый раз когда кто-нибудь выходил оттуда, ноги у него подкашивались от страха. И в то утро, когда Гюбертина побежала в церковь просить соборования для дочери, он узнал, что Анжелика не доживет до вечера. Отца Корниля не было в соборе, Фелисьен в поисках его обегал весь город, ибо последняя его надежда была на помощь свыше. Он нашел и привел доброго священника, но минутная надежда уже угасла, сомнение и ярость вновь овладели им. Что делать? Как заставить небо вступиться? Он бросился в епископство, опять ворвался к отцу, и его бессвязные, безумные выкрики сначала просто испугали монсеньера. Потом он понял, что Анжелика умирает, ждет соборования и что теперь один бог может ее спасти. Фелисьен прибежал только для того, чтобы излить свою муку, порвать навсегда с бездушным отцом, бросить ему в лицо обвинение в убийстве. Но монсеньер слушал его без гнева, глаза его вдруг засияли ярким светом, словно он наконец услышал долгожданный голос небес.
Он сделал сыну знак пройти вперед и последовал за ним, говоря:
— Если хочет бог, и я хочу.
Фелисьен задрожал всем телом. Отец согласился наконец, отрекся от своей воли, положился на чудо. Люди уже не в силах были помочь, бог вступал в свои права. И пока монсеньер в ризнице принимал миро из рук отца Корниля, слезы ослепляли Фелисьена. Он пошел за отцом и священником, но не осмелился войти в комнату и упал на колени перед открытой дверью.
— Pax huic domui.