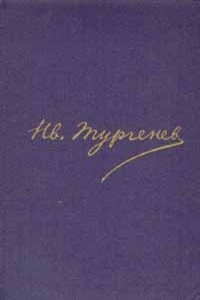Папа отвернулся, кашлянул и принялся за свой стакан.
Чай прошел в полном молчании. Катя сидела, строгая и печальная, неподвижно глядя на скатерть. Лиза уныло молчала. Видимо, обе они уже знали все. Шура и та притихла, с удивлением оглядывая нас.
Папа выпил стакан и сейчас же ушел. Молчание не прерывалось. Молча все встали из-за стола. Я подошел к Лизе.
– Хочешь, Лиза, идти на Волчьи Ямы? Там сегодня снопы возят – и работники наши, и щепотьевские мужики.
Я постарался сказать это самым обычным голосом, но вышло очень неестественно. Лиза печально и покорно взглянула на меня.
– Пойдем.
Мы отправились низом, через сад. Я шел, посвистывая и сбивая палкою головки попадавшимся татарникам и чертополоху. Лиза молча шла рядом.
– Митя!
– Что ты?
Лиза робко и с усилием сказала:
– Митя… попроси у папы… прощения… Я нахмурился.
– Прощения? В чем это? Она молчала.
– Пожалуйста, не суйся, куда тебя вовсе не спрашивают!
Лиза еще ниже опустила голову. Я снова начал сбивать палкою репейные головки.
– Митя, попроси прощения! – тихо повторила она и умоляюще взглянула на меня.
Я сердито повел плечами и пошел быстрее. Всю остальную дорогу мы не сказали ни слова. Что-то вдруг отдалило нас друг от друга. С этой минуты я весь ушел в себя. Теперь никого не было на моей стороне. Я остался один.
И потянулись дни… Одиночество, в котором я очутился, было полное. Не только все кругом, – собственное мое сознание было против меня. Только глубоко под сознанием, как скрученная пружина, напряженно дрожала смутная, непонятная мне сила. Она вела меня, направляла – и молчала. А рассудок ясно и строго произносил над нею осуждающий приговор, и я ничего не мог сказать в ее защиту. Но все равно! Злая ли то была сила, добрая ли, – она стала мне дороже меня, я бесповоротно отдался ей и шел с нею против всех.
Папа держался со мною так, как будто не замечал моего присутствия. Мама, прикованная ревматизмом к постели, не выходила из спальни. На прекрасном, всегда спокойном лице Кати я читал такое беспощадное осуждение себе, что, казалось, умри я – и то ее лицо не дрогнуло бы. Я с вызовом принимал это отношение и шел ему навстречу. Но с кем мне теперь было тяжело встречаться, это с Лизой: с ее бледного, страдающего лица смотрели на меня глаза с таким тоскливым вопросом… А я этого-то вопроса и не мог разрешить.
Иногда приходили минуты, когда как будто что-то прояснялось во мне, и я взглядывал на себя со стороны; тогда мне становилось странно, – я ли это живу и действую в своем теле? В такие минуты я замечал, что папа сильно похудел, что между его бровями прорезалась складка, которой раньше не было. И во мне шевелилась жалость к нему и зарождалось желание пойти и примириться с ним, снова все поставить по-старому. Но это желание скоро исчезало, и я снова замыкался в себе.
Время шло, и никакой перемены в наших отношениях не было. Но я был убежден, что между мной и папой еще произойдет что-то необыкновенное и страшное. Если бы папе не предстояло вскорости уехать, все, может быть, вошло бы постепенно в колею; но он через несколько дней надолго уезжал; как же он отнесется ко мне при прощании? Будет и тогда совершенно не замечать меня, как теперь? Это невозможно. Еще невозможнее ждать, чтоб он ласково и горячо простился со мною. Очевидно, должно было произойти что-то особенное…
VII
И вот наконец пришел последний день. Папе нужно было выезжать к поезду около десяти часов вечера. С раннего утра все в доме стало вверх дном. Липатьевна переносила из прачечной в залу выглаженное белье. В спальне, под маминым наблюдением, горничные укладывали чемоданы. Афиноген смазывал на дворе тарантас. Папа отдавал последние приказания старосте.
Я просидел у себя наверху весь день. Ни к завтраку, ни к обеду я не вышел. Мне страшно было идти вниз: там все должно было решиться. И я старался оттянуть эту минуту. Внизу ходили, кричали. Я прислушивался, как вор, боящийся, чтоб его не накрыли.
Часов в восемь вечера я собрался с духом и спустился в залу. Все были заняты, и на меня никто не обратил внимания. Я молча остановился у окна. Мимо меня проходили, но никто как будто не замечал меня, словно я был вещью вроде стола или стула, на который странно оглядываться. Я стоял уже с полчаса.
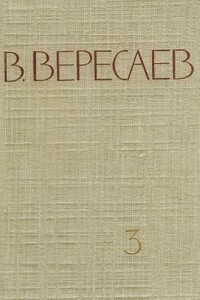
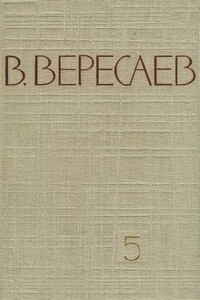
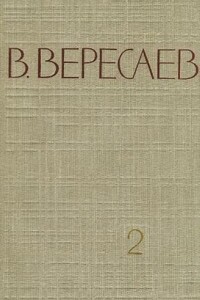



![Том четвертый. [Произведения]](/uploads/books/images/47/475b944e6bb0a2c60ab601d438721f3ec417d8eb.jpg)