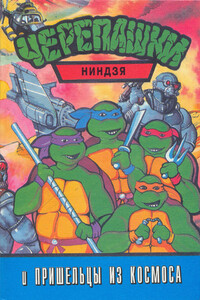Пацан сбегал в подъезд, где ему выдали полные сведения: всё верно, уезжают Анна с мужем.
Пока они обсуждали новость, Миль обошла машину, взглянула на сидящих в кабине, и опять не враз узнала Анну. Выглядела та теперь намного лучше, поправилась даже. Но — в её глазах много перестрадавшего человека жил затаённый страх, неуверенность… тяжело было смотреть в эти глаза. Миль отступила на обочину и кивнула, здороваясь. Анна вжалась лбом в стекло, впилась взглядом в полные сочувствия глаза, неосознанно ощупывая стекло руками, шевеля губами… И Миль вдруг поняла, что Анна тоже не может говорить.
Машина тронулась. Анна заволновалась, толкая мужа, требуя чего-то, затеребила шофёра… Машина встала было, но муж Анны качнул головой, что-то произнёс коротко, и грузовик вновь двинулся, медленно выехал со двора, влился в поток машин и растворился в нём.
Миль перевела дыхание и поняла, что боялась, боялась, что Анна выйдет из машины, подойдёт, дотронется… А теперь она уехала и не вернётся. Ни-ког-да! Вместе с ней уехала вина Миль, её грех. Или нет?!..
Если бы Миль могла, она бы криком кричала, несясь к подъезду, взбегая по лестницам, толкая дверь квартиры. Бабушка! БАБУШКА!!
— Что такое? Да что случилось? — бабушка ухватила Миль за плечи и внимательно осмотрела. — За тобой что — гнались?
Миль замотала головой, схватила мел и, всё ещё часто дыша, написала: «Анна уехала, я рада, но она не говорит!» Она не могла сообразить, как объяснить бабушке про свою вину, про то, что теперь никогда не сможет выпросить у Анны прощения…
Но бабушка поняла сама.
— Тихо, тихо, горюшко моё… — на руках у бабушки плакалось легче, тяжесть, сдавившая сердце, стала отпускать. Не таким непоправивым показалось горе, когда бабулины тёплые, мягкие руки уютно и крепко обхватили вздрагивавшее худенькое тело с торчащими угловатыми лопатками и архипелагом позвонков.
— Надо различать свой грех и чужой, слышишь? — Миль кивала, не отрываясь от бабушки. — Не думаешь ли ты, что Анна ни в чём не виновата? Она ведь тоже провинилась? Согласна? Ну вот. Ты ей помогла? Помогла, и она это знает. А ты её простила? Знаю-знаю, конечно, да. А теперь, — бабушка поставила внучку перед собой и посмотрела ей в заплаканные глаза: — а теперь ты должна простить СЕБЯ. И жить дальше. Нельзя, знаешь ли, мучиться вечно. Ну, было, ну, страшно, да, и стыдно, и тяжело. Но — это уже прошло. Главное теперь — не сделать такое снова. Ты ведь постараешься не наступить на эти грабли ещё раз?
«Грабли?» Миль уже не плакала. «Грабли?»
— Ты что, никогда не видела грабли? — спросила бабушка. Миль растопырила пальцы. — Ага, значит, видела. Так вот, иногда на их зубцы наступают. Представила, что бывает? Точно так, обычно — по лбу. Ну, со всяким может случиться, уж поверь! Но! — бабушка подняла указательный палец. — Считается, что только дурак наступает на них снова…
Миль фыркала носом. Она так смеялась.
… Весёлая, нарядная, влюблённая и щедрая, она, смеясь, кружилась в танце, и её огненно-рыжие кудри соперничали с парчой и шелками её одежд, которые она обожала менять и перешивать, затейливо украшая гладью и ришелье, бисером рос и бусинами ягод…
Как-то незаметно зелень листвы и трав присыпало позолотой и кармином, каждый листочек ежедневно пробовал на себе новые оттенки, служа Осени палитрой, на которой она подбирала сочетания и контрасты, тут же вывешивая свои эскизы на всеобщее обозрение, чтобы на другой же день добавить несколько новых мазков или, задумав новую тему, нетерпеливо и решительно сорвать и разбросать повсюду прежние этюды, и заняться новым мотивом. Она работала в мозаике и витраже, в лепке и чеканке, в живописи и графике, расписывала и вышивала ткани, гранила самоцветы и хрусталь, отливала стекло, составляла духи и варила зелья, она смешивала техники и стили, драгоценности и бижутерию, создавала декорации и ставила пьесы, а потом, то ли устав, то ли усомнившись, что-то захандрила, затосковала, может, обидевшись на
чью-то критику, а может быть — разочаровавшись в любви… Но только яркие декорации пропали, а взамен обнажилось пыльное неуютное закулисье, голые стены, на фоне которых хорошо было репетировать расставание, одиночество и ожидание… И Осень ждала, и плакала подолгу, и пела печальные мелодии без слов, наигрывала то на флейтах, то на гобоях, выводила соло на саксофоне; она куталась в шали, в задумчивости теребила перед зеркалами жечужные ожерелья, примеряла хрустальные бусы, в отчаяньи рвала их и отшвыривала, прятала заплаканное лицо под туманными вуалям и бродила, вороша опавшую бурую листву, словно потеряв в ней что-то… И однажды, всё бросив, она просто ушла и не вернулась. В её владениях долго было пусто и бестолково. Пока, наконец, в них не появилась новая хозяйка. Вошла неторопливо, огляделалась. Покачала головой и занялась уборкой. Пронизывающими ветрами вымела хлам, высушила сырость, выбелила серость. Занялась подбором ковров и обоев. Рука у новой владелицы оказалась крепкой и уверенной…