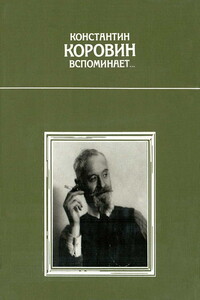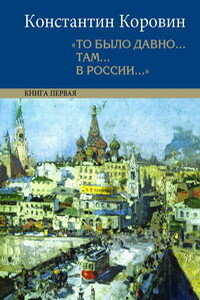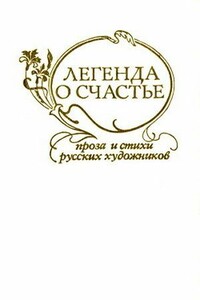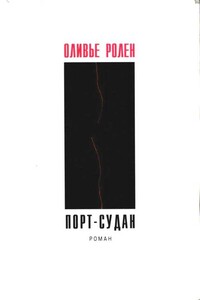Мужики на лугу пережидали полдень. Жара свалит, опять за работу. Красные дни, покос управить надо.
Мы в стороне тоже сидим на травке. Достали молоко в бутылках. Хорошо, молоко с черным хлебом и печеное яйцо с солью. Сидим. А я взял краски, ящик и пишу с натуры: зеленое сено, около крестьяне в рубашках, бабы в цветных платках. Блестит в кустах ивняка светлая Москва-река. Хорошо… Лето…
Около меня Сангвинский, он старше меня, высокий, красивый. Тоже пишет покос. Говорит крестьянке Елычевой:
— Постой, Матреша, немножко у стога. Постой еще… Тебе ужо из города платок привезу в подарок.
— Почто? — покраснев, отвечает Матреша. — Стоять-то ведь это труда мало, это ведь не жать…
— Покос мы за праздник считаем, — отозвались бабы.
— Тожа, сыми-ка ее. Тожа списать умственность надоть иметь… Они еще в ученьи находются. Это не Лев Львович Каменев. Где ж им до его. А тот тожа не может — образ написать. Не дадено. Умственности нету. Тожа старается. Ах, художники, глядеть тожа: в одном кармане вошь на аркане, в другом блоха на цепи…
Мужики смеются:
— Ловко сказал Гришка Стрекач. У Стрекача голова умственная… Дд-а… Стрекача — не переговоришь.
Григорий Стрекач смотрит на нас, карие глаза смеются. Молодой парень, красивый, волосы — черные как смоль — кудрявятся.
— Да вот, — говорит Стрекач. — Тоже художники прозываются. А почто они, кому надоть это самое… чего его? Есть которые иконы пишут, ну, те туды-сюды. А есть — мажут краской невесть што. Ну, спишет ежели вот монастырь Преподобного… Ну, туды-сюды — продаст купцу, еще ничто. А то — кому надоть? Нам ети картины не надоть — куда их! Петуха у Авдотьи списали — хорош петух Авдотьин. И тоже списали. А живой — лучше. Куда нам? А есть такой — купит. Ну, боле трешника не взять. За живого боле плотют. На вот… Вот ведь што, цена, значит, есть. А то нешто мучились бы эдак-то. Сидят часами — сымают, списывают.
— Умственно говоришь, — сказал Григорий Бажанов, — верно, нам дарма не надоть их труды.
— Ничего не умственно, — не соглашается Сангвинский. — А дурью говорит Григорий Стрекач. Ничего он не понимает. Художник — первый человек.
Мужики засмеялись.
— Эн, перьвый человек, — сказал один. — А сапоги каши просят…
— Ха-ха-ха, — рассмеялись бабы.
— У кого сапоги каши просят? — спросил Сангвинский.
— У кого? Вон — заплаты рыжие… — показал мужик на Левитана. — Тожа перьвый, значит?..
— Ежели умственно говорить, то слушай: кто есть первый что ни на есть человек, — крестьянин. Понял? — сказал серьезно Гришка Стрекач. — Вы все, и города ваши, Москву хоша взять, все вы, господа, что ли, — кто вас там разберет… все вы без крестьянина сдохнете без хлеба. Понял? Кто вас кормит? Мы! Поняли умственность?
Мужики поглядели на нас, сказали:
— Это верно…
— Ну и врешь! — сказал Сангвинский. — Во-первых, не хлебом единым жив человек. Да и что ты — крестьянин — первый человек. А по-моему — кузнец первый… Что ты без кузнеца можешь? А? Косу сковать? Ну, как скуешь? Как луг без косы скосишь, ну-ка?
— Верно… — сказали мужики. — Кузнец нужен. Тожа перьвый.
— Ну, а кузнецы вам косу не дадут, не продадут, а сами луга скосят себе… Тогда что?
— Эта ты тожа дуром баешь… — сказали мужики. — А тогда в волостное их, к старшине — исправнику.
— Ах, дак вот вы как. Волостным судом страшишь! А какой он — перьвый, суд-то?
— Вестимо… Тожа они из нас, тожа крестьяне… значит, перьвые… — говорят мужики Сангвинскому.
— Первые? — говорит Сангвинский. — А вот кузнецы-то богатые, они суд-то угостят, подпоят. А луг-то ваш и присудят кузнецам… Тогда как?
— Это верно, — сказали мужики. — Это самое верно. Было ето. Телку Игнатьеву присудили — а телка не его. Ей-ей, было так.
Мужики разволновались.
— Надоть искать начальника, что ни на есть правильного…
— Ага! — сказал Сангвинский. — Правильного? А он — первый человек или кто?
— Вестимо, перьвый, — отвечают мужики.
— Неизвестно… — сказал Сангвинский. — А вдруг взятку возьмет?
— Ну… Чего тут, нешто возьмет. Есть эдакие, не берут… За правду стоит, ежели постарше выбирать…
— Да, деньги не возьмет. А баба красивая уговорит, по ее и поставит. Тогда кто первый будет?