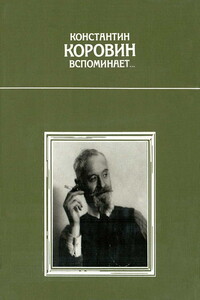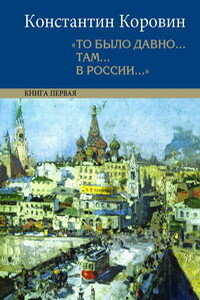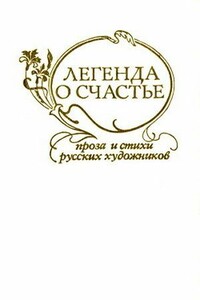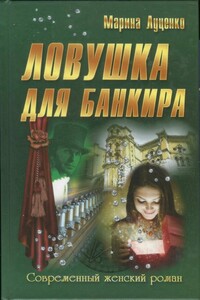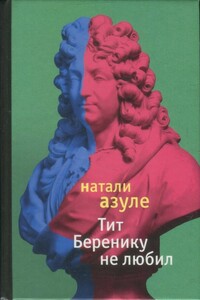— Чего… — говорит Герасим, — это бабочки, себя под ржавый лист подгоняют, под ольшаник, а то под липняк, осинник… От птиц спасаются. Я дал ее Василию Сергеевичу, посадить на крючок-то, — гляди, какого леща выудил.
И, подойдя ближе, нельзя было сразу разглядеть, что это бабочки, — вялые, рыжие ольховые листья.
— А странная штука, — задумчиво произносит Юрий Сергеевич. — Какой силой энергии, каким началом воли или чем это создается? Как это странно… Человеку это не дано…
— Как не дано, что ты, Юрь Сергеич, — дадено… — говорит Герасим. — Вестимо, морду он себе переменить не может, душу тоже… Но из себя вот чего делает. Ласковый, рожу маслену строит, глаза честные, уж вот добрый, вот уж благодетель… Дадено человеку, много жулья… Вот ко мне тем летом приезжал… вот барин! А я хворый был, простудился. Он это мне говорит: я тебе дохтура сейчас привезу, лекарствия, ко мне поедем… А у меня-то в те поры было черное дерево, да какое — из Клязьмы-реки со дна натаскано. Нашел я его. Ему, может, боле тыщи лет есть. Вот это ему дерево-то и надоть… Он все берет — все дерево. Около его парнишка такой, знавал я его, говорит мне: «Этот барин вó тебя наградит… Деньги, значит, из Питера пришлет». Дерево взял, ну и ау! Этот парнишка дал мне малость, сжалился. Вот эта бабочка от птичек спасается, а вот от эдакого-то благодетеля надо всем спасаться, потому что у его нутро волчье, а он тебе овечкой показывается…
Мельник, слушая и видя наше удивление бабочкам, вздохнув, сказал:
— Есть эта притвора. Они листья съедят, а сами себя листом показывают сухим. И, заметь, на отломанную ветвь садятся — за вялые-то листья! Ломана ветвь. Вот ведь у твари ум какой. И чего это? У Господа забота даже о твари малой.
* * *
К вечеру я начал писать с натуры картину красками: большие вязы, плотину и вдали избу мельника. Был красив мирный край. И увидел я: с горки спускается толпа мужиков. Подойдя ко мне, они смотрели, как я пишу, — смотрели не на картину, а на меня и сказали мне:
— Это берег наш. Чего планты сымаешь?
Я говорю им:
— Да вот хорошо тут, вязы большие, речка светлая… Картину я списываю.
— Вязы наши, — говорят мужики. — Давай, — говорят, — барин, на полведра водки с вашей милости.
— Нате, — говорю.
Вынимаю кошелек и даю два с полтиной. Мужики ушли.
Часа через два пришли другие мужики. Я оканчивал работу. Они тоже смотрели на меня, как я пишу, и тоже спросили:
— Чего это планты снимаешь?
— Да вот, — говорю, — красиво тут, вязы списываю.
— Чего вязы? Вязы это наши, наш берег!..
И, ничего не говоря больше, подошли к вязам, взяли пилы и стали их пилить у корня.
— Зачем, — спрашиваю, — вы пилите? Эти столетние вязы, красота, на что они вам?
— Вот чего… на что вам?.. Вот когда спилим, бери их — сходно продадим, а нече их в казну показывать, отдавать. Чего сымать?..
Как я ни уговаривал мужиков, что я не для казны пишу, ничего отбирать не собираюсь, они ничего не слушали, пилили вязы, и первый, самый большой, с шумом упал верхушкой в воду, в нижний омут реки… Я им предлагал деньги и на водку — они не брали.
— Знаем, дашь, а опосля в каталажке сидеть… Знаем мы эти картины… Полно врать, барин, знам мы — машина, значит, здесь пойдет. Вот и сымаешь планты-то… Поди-ка, опосля тады, возьми-ка у казны вязы-то ети. А спилим, так они в дом пойдут. Казаков купит. Вязы наши, понял?
— Понял… — ответил я покорно.
— Это сплоховал ты, — сказал мне Герасим Дементьевич, — надо было маленько схитрануть. Вот как бабочка… Димитрия, что ли?.. Сказал бы ты им: есть, мол, у меня богатей, невесть с чего удавиться хочет. Так вот, просил меня он за пятерку, чтоб ему деревцо подходящее нашел… Вот я эти вязы-то самые и сымаю — показать ему подходящее дерево. Тут вольготно ему висеть, и с речки ветерком продувает. Сказал бы — вот тады вязы-то эти целы бы остались…
Помню, как-то летом, рано утром в деревне, слуга Ленька подал мне телеграмму.
— Вот принес сегодня в ночь со станции сторож Петр. Опоздал маненько. Говорил, что шел после дежурства домой. Так вот на Ремже, у мельницы, только плотину хотел перейти и видит — какой-то мохнатый сидит на мосту у плотины. Увидал Петра-то да так с плотины в омут а-ах!.. Петр думает: «Чего это?» А у его фонарь с собой, он ведь сторож железнодорожный, путь осматривает, ходит с фонарем-то, привык… Он и подошел, где лохматый сидел, и видит: гармонь лежит на мосту, поддевка и четвертной штоф. Он понюхал бутыль, слышит — вином пахнет. Думает: «Глотну». И глотнул разок, да и другой, третий… Видит, водка. Нутро у него в радость ударило. Думает: «Чего же это человек в омутину бросился, меня, что ли, напугался?» Поставил бутыль. «Уйду лучше, — думает, — от греха, а то в ответе бы не быть, кто его знает — может, утопился…» Только уйти хотел, а тот ему из омута и кричит: «Что, хороша водочка-то чужая?..» А Петр ему: «Чего чужая, а ты там, в омуту, почто сидишь, вылезай». Тот вылез, а у его в мешке рыбы что… Это он руками из нор линей здоровых таскает. Глядит Петр, а у его в сквозь волосья — рога кажут… Петр-то думает: «Батюшки… да ведь это водяной…» И от его бегом. Вот и опоздал по тому случаю — с телеграммой.