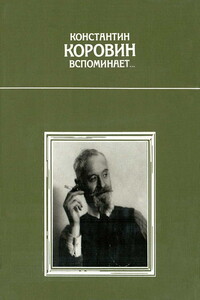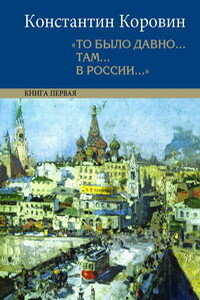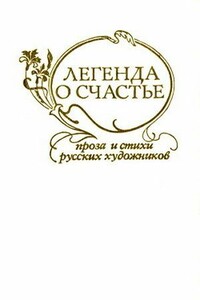И он подошел к маленькому домику в три окошка, где жила цыганка Шура. В окошках — свет. Шура, значит, не спит. Он подошел ближе к окну и заглянул внутрь: Шура снимала большой красный платок. Значит, это она приехала на лодке.
Сняв платок, цыганка подошла к столу и пила молоко прямо из крынки. Потом сняла башмаки, кофту, лампу поставила к постели, вынула из шелковой юбки платок, развернула его и вынула из него золотое кольцо. Надела себе на палец. Кольцо блестело драгоценным камнем. Она вынула другое кольцо и надела на соседний палец. Положила руку на розовое одеяло, долго любовалась игрой камней — и задумалась, глядя темными глазами в пространство. В лице смуглой цыганки было что-то озабоченное и встревоженное.
«Донесу… — подумал становой. И тут же сказал про себя: — Нет, не донесу, я в отставке. Да, да… пускай без меня другие». И постучал в окно.
Цыганка потушила лампу, подошла к окну.
— Это я, Шура, не бойся, пусти меня.
Ветхая маленькая дверь отворилась. На крыльце стояла, освещенная луной, бледная и испуганная, цыганка. И, улыбнувшись, сказала:
— Рада, рада. Вот кто! Начальник!.. Ваша благородие, рада, заходите, пожалуйста.
Она зажгла лампу.
— Садитесь, ваше благородие, — цыганка доставала из шкафика графин с вишневой наливкой и поставила на стол рюмки. — Наливка… настояла сама, поспела вишня сладкая…
— Шура, — сказал становой, — я пришел к тебе сам не знаю зачем. Так… Погадай, что ли, мне малость… Теперь я ничто, нуль… мыльный пузырь, да… отставка.
— Возьму я карты да погадаю… — запела Шура, раскладывая на столе карты. — Сначала погадаю себе, — сказала цыганка, с улыбкой раскладывая карты.
Вдруг Шура вскочила из-за стола, в испуге посмотрев на карты.
— Что ты, чего? — спросил становой.
— Смерть… — ответила Шура, — смерть мне… Вот в третий раз выходит смерть от трефового короля… Это он…
— Шура, ты что? Слышишь? Люблю я тебя, душой люблю, поняла? Говори-ка правду — откуда кольца у тебя эдакие?
Цыганка покраснела.
— А вы, ваше благородие, в окно видели?.. Вот они…
И она достала из кармана кольца.
— Бриллианты, знать? — спросила цыганка.
— Да… — подтвердил становой, — бриллианты… Дорогие… Не ворованные?
— Что вы! Ведь я сейчас приехала на лодке домой с пикника. Ермолкин мне подарил, в любовницы меня к себе зазывает… «Озолочу, — говорит, — тебя, Шура. Жена надоела мне — вот до чего…»
«Моя жена…» — подумал становой. И спросил цыганку:
— Что ж, пойдешь, в полюбовницы-то?
— Что вы!.. — и Шура засмеялась. — Вот если бы он был такой, как вы, — мыльный пузырь, пошла бы, правду говорю…
— Да что ты? — удивился становой.
— А то… — цыганка снова разложила карты. — Видите, ваше благородие, — вот выходит: марьяж, любовь и червонный король. Это вы… Душевный… Я ведь бывала, ваше благородие, в когтях… Там, тут… дарят, поят, угощают… Грешила. А души не видала… А вас, ваше благородие, жалею.
— Шура, да что ты, я пьяница, в отставке…
— Ну-ну…
Цыганка ласково обняла станового.
* * *
В Боголюбове, где река Нерль сливается с рекой Клязьмой, весной, я на песчаном берегу, покрытом ивняком, ловил с бережка рыбу на удочку.
Подошел широкоплечий человек в фуражке с красным околышем и с ним смуглая женщина.
«Цыганка…» — подумал я.
— Хорошо место это… — сказал он мне. — Я вам не помешаю, тут, в сторонке, закину на живчика…
К вечеру на бережку у нас горел костер, и варилась уха из ершей.
— Люблю я приволье, — сказал мой новый знакомый, — и эту самую ловлю, вот люблю…
И он поведал мне рассказ своей жизни — как его уволили в отставку за этих самых ершей…