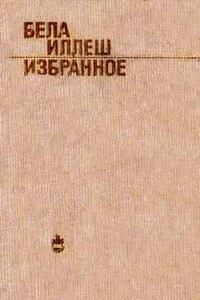— Н-да-а, контрреволюция — это тебе не праздник… Потом, когда-нибудь… А теперь попробуем немного поспать. Спокойной ночи.
На следующий день время шло уже к полудню, когда нам в большом котле принесли завтрак. Это был черный кофе, приготовленный из знакомого уже нам кофейного суррогата военного времени, вонючий и горький. Полчаса спустя в том же котле принесли обед, такого же коричневого цвета, как и утренний кофе. Каков он был на вкус, я не знаю, потому что не успели еще мы приступить к еде, как дверь снова открылась.
— Новак, на допрос! Бескид, на допрос! — крикнул унтер-офицер легионер.
Пока Анталфи был на допросе, я ждал в передней. Присесть было некуда. Я ходил взад и вперед. Затем, сильно утомленный бессонной ночью, я прислонился к стене и стал рассматривать висевшие на стене друг против друга портреты императора Франца-Иосифа и Вильсона. Угрюмый, краснорожий чешский жандарм сторожил меня. Ни в какие разговоры со мной он не пускался. Быть может, причина тому коренилась не в отсутствии желания, а в том, что он ни слова не понимал по-венгерски.
Дверь в комнату, где допрашивали Анталфи, не была обита, и до меня таким образом доносился голос моего товарища, но разобрать, о чем шел разговор, я не мог.
Прошло больше часа, когда дверь, наконец, открылась и появился долговязый, худощавый жандармский ротмистр.
— Входите, господин подпоручик, — сказал он, кивнув мне.
— Я?!
— Да, вы, господин подпоручик.
Я оглянулся, отыскивая глазами того, к кому он мог обращаться. Ротмистр подошел ко мне и положил мне руку на плечо.
— Отпираться не имеет никакого смысла, господин подпоручик. Мы все знаем.
Я, пожалуй, все еще не тронулся бы с места, если бы жандармский ротмистр с почти нежной настойчивостью не заставил меня войти в соседнюю комнату, где происходил допрос Анталфи.
Он сказал что-то по-чешски жандармскому капралу, который, стоя навытяжку, отдал честь. Ротмистр закрыл дверь.
В комнате помещался письменный стол белого дерева. На одной из выбеленных стен висел портрет Массарика, на остальных были развешаны карты военных действий на венгро-чешском, венгро-румынском и венгро-югославском фронтах. Будапешт всюду был отмечен белым флажком.
— Присядьте, господин подпоручик. Не угодно ли папиросу?
— Вы ко мне обращаетесь, господин ротмистр?
— Я уже сказал вам, господин подпоручик: я все знаю. Господин майор чистосердечно во всем сознался. Вам тоже ничего другого не остается.
— Я во всем признался, господин подпоручик, — сказал мне теперь Анталфи, до тех пор стоявший ко мне спиной и разглядывавший карту Словакии. — Господин ротмистр окажет любезность прочесть вам мои показания, и вы тоже откровенно во всем сознаетесь, господин подпоручик. В конце концов мы здесь среди своих: мы все трое офицеры императорской и королевской армии. Приступите, пожалуйста, господин ротмистр.
— Это не соответствует правилам, господин майор, — несколько уклончиво ответил ротмистр.
— Нельзя придерживаться только буквы закона, господин ротмистр. Важна лишь сущность дела. И в конце концов мы — среди своих. Мы все трое носим императорский мундир.
Не трудно было догадаться, в чем сознался Анталфи: я знал также, что и мне придется повторить ту же ложь, но я все же испытывал замешательство. Жандармский офицер был слишком уж любезен с нами, и это мне внушало подозрение. Он, наверно, заранее уж решил, куда нас направить. Теперь же он просто играет с нами, и когда ему эта штука надоест, он поступит с нами, как ему заблагорассудится. Я не знал, что говорить, и продолжал молчать.
— Не обижайте отказом, господин подпоручик, закурите.
Не имея намерения обижать ротмистра, я закурил немецкую папиросу с золотым мундштуком.
— Ну, что же? — обратился Анталфи к ротмистру.
— Сию минуту, господин майор, — ответил тот с поклоном. — Итак…
Он взял убористо исписанный лист бумаги и, обернувшись ко мне, стал читать. Я был ко всему готов, но меня все же поразили те глупости, какие ротмистр написал под диктовку Анталфи.
Из всего записанного вытекало, что Анталфи — австрийский аристократ, воевавший против большевиков и попавший в Венгрию. Он явился теперь в Чехию, так как в Венгрии распространились слухи, будто здесь большевистские агитаторы свободно производят свои бесчинства. Майор потому так откровенно все рассказывает, что во время своей беседы с ротмистром он убедился в том, — и личность ротмистра ему в том порукой, — что в Чехо-Словакии нечего опасаться большевиков: судьба чешского народа — в надежных руках.