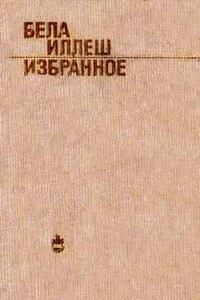— Наверно, только пыль в глаза пускал, этакая сволочь! Нарочно выдумал. Пророчил то, чего ему самому хотелось…
— Может быть, ты прав, а может быть и нет, — ответил Анталфи. — Одно только ясно — сейчас мы ничем помочь не можем.
— Стой!..
Из переулка на Главную улицу вышел патруль венгерских жандармов. Они шли так тихо, что мы их заметили только тогда, когда они очутились перед нами.
— Стой! — крикнул офицер, командовавший патрулем.
Анталфи, не дожидаясь вопросов офицера, сам приступил к объяснениям.
— Мы — актеры, — начал он смеясь, — и наслаждаемся этой чудесной ночью. Вот мои документы. К сожалению, на них чешские печати. Покажи, сынок, и свои документы.
— Что вы делаете так поздно на улице?
— По правде сказать, сейчас уж ничего не делаем, только головы проветриваем. А до этого правды искали, а при искании правды — обыкновенно головы начинают болеть…
— Правды искали? — переспросил офицер строгим голосом.
— Да-с. И, как полагается честному венгерцу, искали правды в вине, ха-ха-ха! В красном вине, в белом вине, в кислом вине, в сладком вине, в старом вине, в молодом вине — где же правда? Ау, покажись-ка, милая!.. Ну, одним словом, отрицать нечего, голова и закружилась…
Офицер засмеялся и возвратил нам наши документы.
— Лучше будет, если вы пойдете домой, — сказал он, на сей раз дружелюбно. — Кому не под силу, тому пить не следует. Отправляйтесь-ка домой.
— Как прикажете, господин поручик.
— Я только подпоручик.
— Виноват, у меня все, видно, в глазах двоится.
— Ну, будет. Ступайте… Раз-два…
Один из жандармов проводил нас до дому.
— Боже, спаси от всяких невзгод Венгрию, нашу родину, — сказал на прощание Анталфи, дружески пожимая ему руку.
Тот бессмысленно осклабился.
— Мы не ошиблись, — сказал Анталфи, когда мы снова очутились у себя в комнате. — Сволочи!..
Я не стал раздеваться. Я все еще надеялся, что мы сможем что-нибудь сделать. Опустив голову на подушку в цветной наволочке, я изобретал самые фантастические планы, пока не заснул. Наутро я проснулся с отчаянной головной болью.
Наша хозяйка уже вернулась с рынка и успела сварить кислые щи. Они предназначались господину Надь, но и нам досталось по тарелке.
— В городе поговаривают, будто ночью…
— Ха-ха-ха! Это ты мне будешь рассказывать, — прервал жену Надь. — Я уже позавчера вечером знал, что с венгерскими жандармами шутки плохи, ха-ха-ха! Забрали их, этих негодяев… Ну, пусть-ка теперь снова попробуют превращать храмы божьи в конюшни!
Я встал и молча вышел во двор. Там я вынужден был прислониться к дереву, чтобы не упасть.
— Что с вами? Уж не от щей ли?
— Нет, нет, это у него не от щей. В жизни своей не едал он еще таких превосходных щей, — принялся выпутывать меня Анталфи. — Все дело, знаете ли, во вчерашнем вине. Этот парень еще совсем недавно у нас в труппе, а вино господина Надь даже меня, старого хрена, едва не свалило. Ну, сынок, собирайся. Не срами нашей труппы.
— Еще тарелку, жена! — крикнул Надь из кухни, служившей одновременно и столовой. — Я уж такой человек, что малым не довольствуюсь, ха-ха-ха!
Почти все утро на улице было так же безлюдно, как ночью. Солнечный свет еще усиливал это впечатление пустоты. По дороге в театр нам навстречу попадались лишь чешские солдаты.
Пришедшие на репетицию актеры все уже знали, что ночью что-то произошло.
— Коммунисты пытались поджечь рудники, — слава богу, жандармы успели их во-время арестовать.
— В самую последнюю минуту, — добавил один из актеров. — Они уже держали спички в руках.
— Шестьдесят двух удалось захватить, остальные бежали в Россию.
— Нет, забрали не шестьдесят двух, а всего лишь тридцать восемь.
— Мне сказали, что восемьдесят одного. Эти сообщения из достоверных источников. Мой хозяин — судебный пристав, и эти сведения исходят от его жены. Среди террористов оказался и тот, кто распял Стефана Тиссу.
— Стефана Тиссу не распяли, а повесили.
— Ты мне будешь рассказывать! Не станет же врать жена судебного пристава!
— Чорт их считал, — ответил Надь, когда я за обедом спросил его, правда ли это. — Одно только известно: одиннадцать из них расстреляли, остальных же здорово избили… Пока что, — добавил он после некоторого молчания, — самое важное, что одиннадцать главных виновников расстреляно.