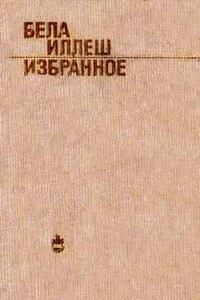— Где вы служили, товарищ?
— Он был интернирован вместе со мной, — ответил за меня Гюлай. — Мы земляки, я знаю его уже много лет. Хороший парень!
— Приходите, товарищ, к пяти часам на площадь Коломана Тиссы. К тому времени я что-нибудь да надумаю. Если вы меня не разыщете, то все, что нужно, узнаете через товарища Гюлая.
На площади Коломана Тиссы собрались с красными знаменами рабочие и солдаты. Стемнело рано. Электрические фонари тускло освещали площадь. Чтобы лучше слышать оратора, мы, несмотря на то, что на громадной площади места было вдоволь, тесным кольцом окружили трибуну: черное живое ядро на огромной площади, накаленное, как шрапнель за сотую часть минуты до разрыва. Это собрание резко отличалось от всех тех, какие мне приходилось видеть за все время революции. И настроение здесь было далеко не такое благодушное, как на уличных демонстрациях. Здесь не кричали «ура» в честь революции, а критиковали ее. Я прослушал трех ораторов, и все яростно нападали на правительство за то, что оно присягало королю, и все трое требовали провозглашения республики. Толпа шумно аплодировала им, но кой-где слышались и иные возгласы.
— Республика — только первый шаг. Нам нужен социализм!
— По примеру русских…
— Социализировать фабрики!
— Вооружить рабочих!
По окончании собрания спели «Марсельезу», а затем небольшая группа запела «Интернационал». Ни музыки, ни слов я до сих пор не слышал, даже не знал, что эта песня означает, но она произвела на меня потрясающее впечатление, — я совсем опьянел от нее. Быть может и потому, что два солдата рядом со мной пели по-русски. Отто я видел, но переговорить с ним не мог. От Гюлая я узнал, что мне дадут работу по приему фронтовиков.
На следующий день я уже смог приступить к работе. По распоряжению солдатского совета меня прикомандировали к поезду, где готовили чай и кофе для возвращавшихся с фронта солдат. Поезд стоял под стеклянным навесом Восточного вокзала.
Четыре кашевара беспрерывно готовили в огромных котлах чай и кофе. Пищу приносили в готовом виде из города. Национальный совет издал распоряжение, чтобы ежедневно жители одной какой-нибудь улицы готовили пищу для возвращавшихся солдат. Жители повиновались. Изголодавшийся город готовил, словно на свадьбу. Со всех сторон целыми корзинами волокли всякие лакомства, каких бедняку, вроде меня, уже много лет не приходилось видеть.
— Трусят, мерзавцы!
— Они, дураки, думают, что если солдат нажрется, то сразу же им все простит.
— Нет, шалишь! Он скорее доискиваться станет, где остальное припрятано.
— Как можно быть до того несправедливыми! — ругался наш старший кашевар.
— Ну, ну, котелок кофе — это тоже еще не вся правда!
Прибывает поезд. Не успевает он еще остановиться, как солдаты стремительно высыпают из вагонов. Солдаты, ехавшие на крышах вагонов, осыпают неистовой бранью тех, кто под ними вылезает через окно и мешает им слезть. Уполномоченный Национального совета, молодой журналист с большой кокардой национальных цветов на черном сюртуке, снимает шляпу и начинает приветственную речь:
— Солдаты, сердце страны, столица Венгрии…
Дальше ему говорить не удается, потому что толпа солдат увлекает его с собой. Сестра милосердия, собравшаяся раздавать солдатам белые астры, заливается слезами: кто-то сильно отдавил ей ногу.
Солдаты штурмуют наш поезд. Они несутся на запах, как ночная бабочка на свет. Они измучены, оборваны, грязны, пропитаны запахом окопов. У большинства нет даже вещевого мешка, но винтовка есть почти у каждого. Ее берегут, как зеницу ока, не выпускают из рук даже во время еды. А как они едят! Впихивают в себя пищу, обгладывают каждую кость! Большие чаны вмиг опустошены. Еще, еще, еще! Руками рвут хлеб, штыками режут мясо.
— Где стоят виселицы? — обращается ко мне высокий черноволосый артиллерист с горящими глазами.
— Нигде.
— А где же вы всяких мерзавцев вешаете?
— Совсем не вешаем.
— Безобразие! — восклицает он, и лицо его багровеет, только уродливый шрам над левым глазом продолжает оставаться бледным. — Угощаете нас всякой бурдой вместо того, чтобы…
— Крови жаждешь, Готтесман? — спрашивает его другой артиллерист.