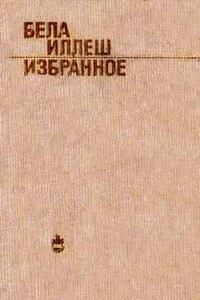— Где я? — спросил Петр и, не дожидаясь ответа, одним духом выпил полмиски пустой тминной похлебки. — А что, хлеба у вас не полагается?
Солдат вместо ответа только рукой махнул, а на первый вопрос туманно ответил:
— Недалеко от границы.
Тем временем Петр успел разглядеть солдата. Рябое лицо и голубые глаза мало о чем говорили. Зато ноги… Обут солдат был в дырявые сапоги.
— Слушай, — начал Петр, — у меня при себе десять чешских крон. Раздобыл бы ты хлеба, право?
— Можно, — кивнул солдат и, оглянувшись, не подглядывает ли кто, воровато сунул деньги за пазуху.
— Принесу. Сию минуту, — сказал он и направился к двери.
Уже стоя на пороге, он вдруг передумал, притворил опять дверь и сказал шопотом:
— Если есть башка на плечах, брось-ка ты думать о хлебе. Шимак болен, нынче дежурит прапорщик Горкай. А завтра дежурство прапорщика Дингхофер, да и Шимак может к завтраму выздороветь. Счастье твое, если до тебя сегодня черед дойдет. Горкай — человек хороший, не чета всей этой сволочи. Если и закатит затрещину, так не со зла, а только по долгу службы. Служба уж такова! Хороший человек, говорю тебе. И если варит у тебя башка…
Солдат вышел.
Петр нервно зашагал из угла в угол. Он все ждал, не вернется ли солдат. Метался по камере. Три шага туда, три шага обратно.
Солдат не приходил. Вместо него полчаса спустя явился ефрейтор, приземистый белокурый малый.
— Ну, как? Не сдох еще? — почти дружелюбно осведомился он. — Да, Шимак, видно, сдавать стал, не тот уже, что прежде. А какой боевой был!.. Собирайся, пойдешь на допрос. Вещей нет?
— Нет. Чехи все отобрали.
Вишь черти! Всех обдирают, как липку. Дай срок, все назад вернем, да еще с лихвой… Тебя как звать?
— Стефан Балог.
— Балог? А из каких краев?
— Из Кошице.
— А-а, из Кошице!.. Я потому опрашиваю, что и меня звать Балог, вот я и подумал — не родня ли? Нет, мы кечкеметские, из деревни Ижак… Ну ладно, идем.
Ефрейтор пристально поглядел на Петра и вдруг отскочил, как ужаленный. Вся солдатская выправка разом соскочила с него, и он всплеснул руками.
— Петр Ковач?!
Петр обомлел.
— Не признал? — шептал ефрейтор. — Я же Григорий Балог. Вместе в Мункаче сидели… А Гюлая помнишь, что нас учил? А обер-лейтенанта Шомоди?
Петр вспомнил. Как было не вспомнить! Григорий Балог — тот, кто осенью 1918 года в концентрационном лагере выдал всех коммунистов.
Петр стоял, обливаясь холодным потом, как в столбняке. И вдруг, сам не зная почему, громко расхохотался.
— Что же, Григорий, я у тебя в руках. Делай со мной что хочешь. Убивай, сдирай шкуру…
— Убивать? А зачем?
— Затем, что ты белый, а я красный.
— Белый, красный… — Балог передернул плечом. — Земли- то вы нам не дали. Но и эти хороши! Совсем задавили налогами. Вконец народ разорили. Только тем потакают, у кого и так всего много. Меня вот опять в ангельскую шкуру обрядили… Убивать, шкуру драть?.. Не-е, больше я ни с кого шкуры драть не стану. Будет, довольно! А если и ты, друг, мозгами горазд шевелить, так и с тебя Горкай шкуры не сдерет. Идем, что ли!
Белобрысый, уже лысеющий офицер, прапорщик Горкай, производил допрос на веранде дачи. Перед ним на простом дощатом столе стояли чернильница, кружка и пяток пивных бутылок, сбоку лежало несколько стопок бумаги.
— Ну, выкладывай, что натворил? — хриплым, натруженным голосом обратился он к Петру.
Он отхлебнул из кружки, поднялся и подошел к Петру. Со скучающим видом, точно выполнял служебную обязанность, прапорщик отвесил ему пощечину и как ни в чем не бывало, уселся обратно за стол.
— Выкладывай, что натворил? — повторил он.
Узкий мундир едва сходился на его коротеньком тучном туловище. Лицо у него было так помято, точно его, а не Петра только что вывели из камеры.
— Ну, что ты натворил? — в третий раз спросил он.
Петр и на этот раз ничего не ответил, но настойчивое покашливание стоявшего позади навытяжку Григория Балога, напомнило ему о недавнем разговоре. Превозмогая желание оглянуться, он заговорил с решимостью человека, приготовившегося прыгнуть в холодную воду:
— Господин прапорщик изволят, понятно, знать, какие муки терпят венгры от проклятых чехов. Я и подумал: авось, меня здесь иначе примут. В Кошице я полгода просидел только за то, что я венгерец, и пятнадцатого марта…