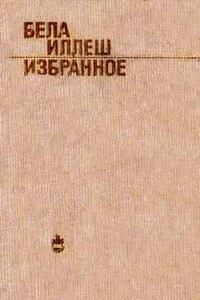Несколько минут доктор Гольд и Секереш молча сидели друг возле друга.
— Чего ради мы, собственно говоря, разыграли всю эту комедию? — заговорил, наконец, по-венгерски доктор Гольд. — Ни одна живая душа нас не видела.
— Никогда нельзя знать. Здесь столько полицейских — полдюжины на каждого жителя. Но борода у тебя, надо воздать тебе должное, действительно великолепна. Я бы тебя, честное слово, не узнал. Это не значит, конечно, что канцелярия пропаганды не узнает. У чешского льва всегда два хвоста, но у канцелярии пропаганды сотня глаз.
Лиловый автомобиль без малого три часа разъезжал по шоссе.
Секереш и доктор Гольд-Гюлай обсудили партийные дела до мельчайших подробностей.
Гюлай был очень недоволен.
— Много шума, а толку мало — таково было его мнение.
— Не забудь, что мы должны взять установку на краткие сроки. Темп мировой революции…
— Краткий срок — это правильно. Но если дело дойдет до действий, мы обанкротимся.
— Ты ошибаешься.
— Хотелось бы, чтобы ты оказался прав. Теперь нам, конечно, не остается ничего иного, как продолжать то, что вы начали. Изменим мы лишь одно, и на этом я настаиваю: те товарищи, которые работают легально, не должны принимать непосредственного участия ни в работе военной организации, ни в подпольной работе, связанной с Венгрией. Охотно допускаю, что государственная власть у вас неопытная, подкупная, слабая, но все же мы не в праве поступать легкомысленно. С Петром, Монданом и Ничаем я хотел бы побеседовать лично.
— Что же, это можно устроить, — сухо ответил Секереш.
— Этот Гонда прекрасный парень, — продолжал Гольд, не замечая или не желая замечать недовольного тона Секереша. — Вообще здешние товарищи мне очень нравятся.
— Мне также.
Гольд крепко хлопнул Секереша по плечу.
— Какая у нас будет красная армия! Этого зверя Хорти мы одним ударом сбросим в Адриатическое море. Если подумать, что еще несколько недель, и…
Секереш с горящими глазами восторженно кивал головой.
— Еще несколько недель, и…
В тот же вечер Секереш послал Ивану Рожошу письмо.
Письмо это было не написано Секерешем, а получено им самим. За последнюю неделю он получил около двухсот подобных писем. Партийные организации, а также люди, сочувствовавшие партии, — притом не из рабочих или крестьян, — письменно уверяли его в своих симпатиях и в своей преданности.
Такое письмо было получено им и от служащих мункачского жупаната. Под письмом стояло пятьдесят две подписи.
Письмо начиналось с обращения:
«Многоуважаемый и искренно любимый товарищ Секереш!..»
Секереш после недолгого размышления взял перочинный ножик, соскоблил с письма свою фамилию и написал вместо нее «Рожош».
Подправив таким образом письмо, он отослал его Ивану Рожошу.
События следовали одно за другим, неумолимо и оглушительно, как удары парового молота, пущенного полным ходом.
В день возвращения Секереша из Праги румынские железнодорожники уже перевозили французское оружие по направлению к Лавочне.
В тот день, когда Секереш ударил Немеша по лицу, Петр переехал в Волоц. Когда генерал Пари пригласил вождей новой партии на «дружеское собеседование», виадук между Волоцем и Верецке уже лежал в обломках.
На другой день после взрыва Петр вечером возвратился в Свальяву. Тимко уже знал о случившемся. Оставшись наедине с Петром, Тимко вопросительно посмотрел на товарища, как будто хотел спросить, кто и как это сделал. На его немой вопрос Петр ответил:
— Ей-богу, не знаю. Работа не наша. Мы собирались это сделать послезавтра.
— Кто же, в таком случае?
— Не знаю. Может быть, украинцы?
Больше они об этом не говорили. Женщины легли спать, а мужчины остались сидеть, обсуждая перспективы войны. Две недели, в крайнем случае семнадцать-восемнадцать дней, никак не больше, — и русские будут здесь. Надо торопиться, надо быть готовыми к их приходу.
Они уже собирались лечь спать, Ольга давно спала, как вдруг дом огласился отчаянным плачем Наташи. Ее вопли, звучавшие как крики о помощи, разносились далеко по сонной улице. Ольга вскочила, мужчины также поспешили на помощь, но Наташу ничем нельзя было успокоить. Когда Петр хотел напоить ее водой, она в кровь исцарапала ему руку.