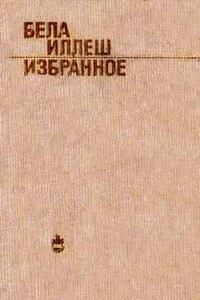— Я тоже, — отвечает Кириллов.
Мункачский жупан, потупив глаза, стоит посреди комнаты и в смущении кусает ногти. Берегсасский жупан, поигрывая моноклем, некоторое время молча, с улыбкой, разглядывает напуганного коллегу, а затем медленно направляется к Петру. Но раньше, чем он успевает раскрыть рот, между ним и Петром вырастает фигура Секереша.
— У меня к вам, господин жупан, почтительная просьба от «Унгварской газеты». Широкой публике будет чрезвычайно интересно узнать ваше мнение о происшедших событиях. «Мнение человека твердой руки», — под таким заголовком хотел бы я, с вашего позволения, опубликовать это интервью…
— Широкая публика… — говорит жупан, стараясь казаться безразличным, — широкая публика… Ну, если это тоже на пользу демократии — не возражаю.
Не успевает он договорить, как дверь отворяется, и начальник военной полиции с порога громко рапортует мункачскому жупану, что при разгоне митинга ранено двадцать девять человек, из которых четырнадцать пришлось отправить в больницу.
Улицы безлюдны. Повсюду патрули легионеров. На перекрестках конные полицейские. На расстоянии двухсот шагов, отделяющих ратушу от гостиницы «Звезда», Петра и Секереша два раза останавливают.
Очутившись у себя в номере, Секереш сразу же утратил все свое самообладание. Он бросился на кровать и зарыл голову в подушки. Петр молча ходил по комнате. Тело Секереша судорожно вздрагивало, словно он плакал. Подойдя к нему, Петр приподнял его, как ребенка, и повернул на спину. Секереш сел на кровати.
— Ужасно! — вздохнул он. — Ужасно…
— Мы, значит, на неправильном пути? Так, что ли, Иосиф?
— Нет, иного пути нет. Все говорит за то, что вскоре поляки нападут на Советы. Через эту маленькую страну в Галицию ведут три стратегические линии, линии неизмеримого значения. Нужно во что бы то ни стало мобилизовать массы.
— Словом, иного пути нет? — резко вскричал Петр.
Секереш с удивлением взглянул на него.
— Чего ты кричишь? Я уже сказал, что другого пути нет.
— А если нет, то не будь старой бабой, делай свое дело и не хнычь.
Секереш поморщился, точно отведал уксуса, и укоризненно покачал головой. Но вдруг улыбнулся виноватой улыбкой, вскочил и обнял Петра.
— Ты прав, дружище. Спасибо тебе, — буду держать себя в руках…
В номер к Петру постучал официант. Рожош просит его спуститься в общую залу.
В коридорах уже горит электричество. Ресторанная зала пуста, занят всего один столик: за ним сидят Рожош с сестрой, берегсасский жупан и несколько офицеров. У Рожоша багровое лицо. Разговаривая с Петром, он ни на минуту не выпускает из рук стакана с вином.
— Я сейчас уезжаю в Берегсас, — говорит он, — но завтра в полдень вернусь. Пожалуйста, приходите к этому времени ко мне. До моего возвращения ничего не предпринимайте: после сегодняшнего случая нужна сугубая осторожность. Я хочу и буду делать все сам.
Петр молча наклоняет голову.
— Было бы желательно, чтобы и господин Секереш поехал с вами, — предлагает берегсасский жупан.
Рожош одобрительно кивает.
— Унгварский поезд уже отошел, а потому я прихвачу товарища Ковача с собой в автомобиле, — заявляет Мария. — Я еду в Унгвар, через полчаса двинемся.
В гору — под гору…
Дорога ведет через холмистую местность.
Автомобиль бесшумно мчится по шоссе, проложенному в стратегических целях. Небо в тучах, кругом темно, только автомобильные фары отбрасывают свет на дорогу.
Пятьдесят километров, шестьдесят, семьдесят… Откинувшись на кожаные подушки, Мария и Петр молчат.
— Петр, — раздается вдруг голос Марии.
Петр удивленно взглядывает на нее: до сих пор Мария называла его товарищем.
— Видите, Петр, я была права. Народ настроен в пользу большевиков. Ему нехватает лишь руководителя. А про то, что вы — большевики, знают только власти, народ об этом и не догадывается.
— А если власти знают, как они это терпят?
— До сих пор терпели потому, что не считали вас опасными. Венгерских белых они больше боятся и намерены использовать вас в борьбе с ирредентой. Но что они предпримут после сегодняшнего случая — не знаю. Берегсасский жупан считает вас главным уполномоченным большевиков. Секерешу он верит. Кстати, я тоже долгое время считала Секереша предателем. Наружность у него такая, что подумать о нем можно все, что угодно.