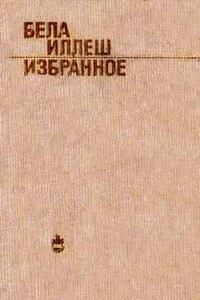Петра все еще брало некоторое сомнение, не морочат ли его. Тем не менее он отважился на вопрос:
— Ну, а что говорят о Рожоше старые социал-демократы?
— Ты лучше спроси, где они, эти старые социал-демократы? Часть их в тюрьмах в Венгрии, другая — в тюрьме в Илаве, одни — на нашей стороне, другие — на стороне Рожоша. На русинской территории было до революции пять социал-демократических организаций, теперь одна из них — на румынской территории… Словом, ты будешь работать при майоре Рожоше, при товарище Рожоше. Майор очаровательный, милейший человек. У нас с ним прекрасные, чтобы не сказать дружеские, отношения. Познакомил нас мой закадычный друг — начальник полиции капитан Окуличани. Об Окуличани — тоже целая история, но об этом — в другой раз. К нему я как раз и тороплюсь. Но ты, вижу, чертовски устал. Отдыхай, а вечером явишься в полицию. Пока я не вернусь, из дому не выходи. Будут стучаться — не шевелись. Дома, кроме тебя, никого нет: хозяин сидит в Илаве, хозяйка торгует мануфактурой, вернется лишь под Вечер.
Говоря это, Секереш поправлял перед зеркалом свой галстук. Затем взялся за шляпу, но тотчас же отшвырнул ее от себя, словно она его ужалила.
— Что? Что такое? — привскочил Петр.
— Идиоты! — в бешенстве заорал Секереш. — Идиоты! — повторил он уже немного тише и протянул Петру клочок бумаги.
— Четвертая за эту неделю, — добавил он жалобным тоном, сокрушенно покачивая головой.
Петр взглянул на бумажку.
Три строчки, отпечатанные на пишущей машинке:
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Да здравствует пролетарская диктатура!
Предателям — смерть!»
— Не понимаю, что это значит… Чего ты так взбесился?
— Что это значит? — повторил Секереш, к которому вернулся его обычный наставительный тон. — Это, брат, значит, что в городе, помимо нашей, работает еще одна подпольная организация. Это, конечно, очень приятно, но очень неприятно, что меня считают предателем и грозят мне, — наивно, правда, но все же грозят. Самое же неприятное — что мне никак не удается напасть на их след. Ну дальше, впрочем, видно будет. Пока что поддерживай огонь в печке, отдыхай и жди меня.
Вечером Петр явился в полицию, а на пятый день познакомился с Иваном Рожошем.
Вилла Рожош стоит на самом берегу реки Унг. Ее красная черепичная крыша уже издали видна сквозь еще голые ветви фруктовых деревьев. Кругом нее тянется выбеленная чугунная решетка, вздымающая к небу свои длинные острия.
Петр звонит. Изнутри отвечает собачий лай. Внезапно, словно из-под земли, вырастают перед Петром два огромных волкодава и заливаются яростным лаем.
— Тубо, Кун!.. Куш, Самуэли!..
Самуэли и Кун — два волкодава — виляя хвостами, ластятся к вышедшей на звонок девушке, но та, не обращая на них внимания, пристально разглядывает Петра сквозь чугунную ограду.
— Вы брата ищете?
— Я ищу товарища Рожоша.
— Его нет дома.
— Позвольте обождать его?
Девушка еще раз оглядывает Петра с головы до ног. Петр тоже внимательно рассматривает эту стройную, высокую темноглазую девушку. Она стоит перед ним без пальто и без шляпы, с непокрытой головой, в одном легком сером платьице и туфлях. Ее коротко стриженные иссиня-черные волосы блестят на солнце.
— Простудитесь, — говорит Петр, когда взаимное разглядывание затянулось слишком долго.
Девушка слегка краснеет, но не обижается. Улыбнувшись Петру, она отворяет ворота и обеими руками удерживает собак за ошейники.
— Тубо, Кун! Замолчи.
— Вы, конечно, коммунист? — спрашивает она, когда они входят в переднюю, увешанную оленьими рогами.
— Да, я бежал из Венгрии. Меня зовут Петр Ковач.
— А я — Мария Рожош. Снимайте пальто и входите… Что нового в Венгрии?
— Да вот… Как бы сказать…
Через огромные, настежь открытые окна кабинета потоком вливается раннее солнце. Камин, в котором потрескивают дрова, ржаво-красный ковер, красные кожаные кресла, широкий простой письменный стол, высокий, поместительный книжный шкап. На стенах портреты Массарика, Вильсона, Маркса и какого-то украинца с громадными обвислыми усами. Петр не сводит глаза с этого портрета.
— Садитесь, товарищ.
Петр садится, а барышня остается стоять.