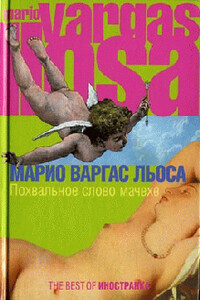На первый взгляд ни одно из этих воспоминаний не имело ничего общего с Лукрецией. Отчего же все острее жажда увидеть ее наяву, услышать ее голос? «Я солгал, любимая, – подумал дон Ригоберто. – Все вокруг имеет отношение к тебе». Все, что он делал, включая глупейшие операции со страховыми полисами по восемь часов кряду с понедельника по пятницу в офисе его компании в центре Лимы, было связано с Лукрецией, и ни с кем больше. Не говоря уже о снах, мечтах и фантазиях, которые он с рыцарской преданностью посвящал ей одной. Свидетельства этого служения, интимные, неоспоримые, пронзительные, находились на каждой странице любой из тетрадей.
При чем тут был мятеж? Едва пробудившись, дон Ригоберто с возмущением припомнил новость из вчерашней газеты, которую Лукреция наверняка тоже прочитала и которую он слово в слово переписал в свою тетрадь:
Веллингтон (Рейтер). Двадцатичетырехлетняя учительница была приговорена городским судом к четырем годам тюремного заключения за развратные действия по отношению к десятилетнему однокласснику своего сына. Судья особо подчеркнул, что вынесенный им приговор аналогичен тому, который ожидал бы преступника-мужчину за сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой.
«Лукреция, любовь моя, моя родная, дай бог, чтобы эта новость не напомнила тебе о нашем разрыве, – подумал дон Ригоберто. – Читая ее, я не думал о прошлом, не чувствовал ни стыда, ни гнева, ни обиды». Ничего подобного. Скорее наоборот. В то утро, когда дон Ригоберто, прихлебывая горький кофе (не потому, что тот был без сахара, а оттого, что за столом не было Лукреции, которой он обычно читал вслух статьи), пробежал глазами заметку, он испытал отнюдь не горечь и сострадание и уж тем более не удовлетворение справедливым решением судьи. Его охватило кипучее, неодолимое, достойное пылкого подростка сострадание несчастной новозеландской учительнице, столь сурово наказанной лишь за то, что она слишком рано показала маленькому счастливцу прелести магометанского рая (лучшего, как полагал дон Ригоберто, предложения на рынке религиозных услуг).
«Да, да, милая моя Лукреция». Он не лгал, не рисовался, не преувеличивал. Весь следующий день дон Ригоберто не переставал возмущаться тупостью судьи, который вынес вердикт, руководствуясь примитивной логикой, навязанной феминистками. Разве можно сравнить настоящего преступника, грубого мужчину, который насилует десятилетнюю девочку, и двадцатичетырехлетнюю девушку, посвятившую в тайны плотских наслаждений десятилетнего мальчишку, который уже пробовал удовлетворять себя и успел столкнуться с ночными поллюциями. В первом случае речь идет именно о насилии преступника над беззащитной жертвой (ведь даже достаточно зрелая, чтобы испытывать ответное влечение, девушка страдает от грубого проникновения в свое тело), тогда как во втором половой акт, если таковой имел место, не состоялся бы против воли малолетнего партнера. Подчиняясь своей ярости, дон Ригоберто схватил перо и торопливо записал: «Хотя я терпеть не могу утопий и полагаю их разрушительными для человеческого общества, одна греет мне сердце: ах, если бы каждый ребенок мужского пола, достигнув десяти лет, поступал в распоряжение тридцатилетней замужней дамы, предпочтительно тетки, крестной или учительницы». И лишь тогда смог перевести дух.
Весь день дона Ригоберто тревожила судьба бедной учительницы из Веллингтона, он с тоской и жалостью думал о публичном позоре, который пришлось пережить несчастной, об издевательствах и насмешках, которым она подвергалась, о бесконечной череде унизительных экспертиз, о прессе, ославившей ее как дегенератку и совратительницу детей. Со стороны это могло показаться позой, мазохистским фарсом. «Но нет, любовь моя Лукреция, поверь мне». День и ночь у него перед глазами стояло лицо приговоренной учительницы, как две капли воды похожей на Лукрецию. И все сильнее становилась жажда рассказать ей («рассказать тебе, милая») о том, как горько он раскаивается. В том, что оказался таким же бесчувственным, тупоумным, жестоким, как судья из Веллингтона, города, в который он никогда не поедет, а если поедет, то лишь для того, чтобы выстлать лепестками роз путь достойной преклонения учительницы, которую за благородство и великодушие заперли в одной камере с воровками, грабительницами и аферистками (белыми и аборигенками).