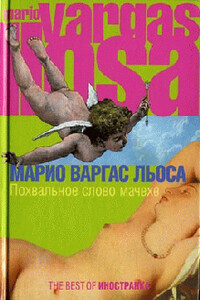И посмотрел глазами печальной собаки.
– Сказать по правде, Модесто, меня привело сюда тщеславие. И любопытство, конечно. Возможно ли, что спустя десять лет, не видя меня и ничего обо мне не зная, ты продолжал меня любить?
– Любить – не совсем точное слово, – возразил Модесто. – Я люблю свою американку, Дороти, она меня понимает и позволяет петь в постели.
– Его отношение к тебе гораздо сложнее, – пояснил дон Ригоберто. – Ты – его воспоминание, мечта, фантазия. Хотел бы я любить тебя так, как он. Постой.
Он бережно поднял край легкой рубашки и, развернув жену поудобнее, устроился сверху, так, чтобы их тела полностью соприкасались. Укрощая желание, он попросил жену продолжать рассказ.
– Когда меня стало клонить ко сну, мы вернулись в отель. Модесто простился со мной на пороге. Пожелал сладких снов. Он вел себя как настоящий рыцарь, и наутро я решилась немного пофлиртовать.
К завтраку, накрытому в гостиной, она вышла босой, в коротеньком пеньюаре, открывавшем ноги почти до бедер. Модесто уже сидел за столом, одетый с иголочки и гладко выбритый. При виде доньи Лукреции он раскрыл рот от изумления.
– Тебе хорошо спалось? – едва выговорил Плуто, вставая, чтобы помочь ей сесть за стол, уставленный тарелками со свежими фруктами, тостами и мармеладом. – Ты не обидишься, если я скажу, что ты очень красивая?
– Подожди минуту, – перебил жену дон Ригоберто. – Дай мне поцеловать ножки, которые свели с ума этого Плуто.
По дороге в аэропорт и позже, на борту «Конкорда», Модесто продолжал выказывать своей спутнице робкое обожание. Спокойно, без мелодраматических эффектов, он поведал донье Лукреции о том, как после ее отказа решил бросить университет и бежать в Бостон. Чужой город с холодными зимами и темно-красными викторианскими домами встретил молодого перуанца неласково: прошел не один голодный месяц, прежде чем ему удалось найти постоянную работу. Он настрадался, но упорно шел вперед. Постепенно он обрел прочное положение в обществе, повстречал хорошую женщину, которая любила и понимала его, и собирался вернуться к преподавательской деятельности. Но оставался давний каприз, мечта, которая влекла его и утешала: волшебная неделя, игра в богача, путешествие по Нью-Йорку, Парижу и Венеции с Лукре. После этого он мог бы умереть спокойно.
– Наша поездка действительно обошлась тебе в четверть сбережений?
– Из собственных средств я потратил триста тысяч, остальное – деньги Дороти, – ответил Модесто, глядя ей в глаза. – И заплатил я не за поездку. А за возможность видеть тебя за завтраком, с голыми руками, ногами и плечами. Я в жизни не видел ничего прекраснее, Лукре.
– Интересно, что сказал бы этот бедолага, доведись ему увидеть твои груди и попку, – усмехнулся дон Ригоберто. – Я люблю тебя, милая, я тебя обожаю.
– Тогда я решила, что в Париже он увидит остальное. – Донья Лукреция уклонилась от навязчивых поцелуев мужа. – Пилот как раз объявил, что мы преодолели звуковой барьер.
– Это самое малое, что ты могла сделать для столь любезного сеньора, – заметил дон Ригоберто.
Бросив вещи в номере – спальня доньи Лукреции выходила окнами на Вандомскую площадь, посреди которой высилась темная колонна, и сияющие витрины ювелирных магазинов, – путешественники отправились на прогулку. Модесто выучил маршрут наизусть и точно рассчитал время. Они миновали Тюильри, переправились на левый берег Сены и по тесным улочкам спустились в Сен-Жермен. В аббатстве они оказались за полчаса до концерта. Стоял блеклый и теплый осенний вечер. Модесто с планом города в руках то и дело останавливался под начинавшими облетать каштанами, чтобы дать Лукреции соответствующие исторические, архитектурные или искусствоведческие пояснения. Спутники высидели весь концерт на неудобных церковных лавках, крепко прижавшись друг к другу. Скорбное величие «Реквиема» захватило Лукрецию. После концерта, расположившись за столиком на первом этаже ресторана «У Липпа», она похвалила Модесто:
– Даже не верится, что ты раньше не бывал в Париже. Ты так хорошо знаешь все эти улочки и памятники, словно прожил здесь много лет.