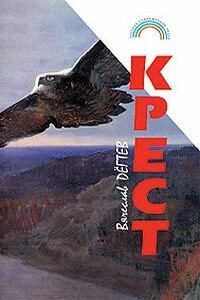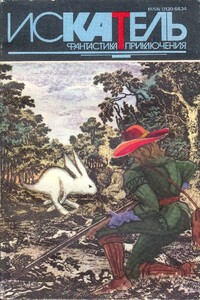Проснулся в своей кроватке. Было еще очень рано — за окном багрово, — дед спал, выставив острую бородку, отец громогласно храпел, но мать уже возилась на кухне с посудой.
Я припомнил нашу с дедом поездку, и почему-то показалось, что все это мне просто приснилось. Как был — без штанов — побежал узнать: ездили мы или нет. Мать цедила молоко. В новые кринки! Значит, ездили, — вздохнул облегченно и провел пальцем по шершавому, теплому боку кувшина.
— Пить хочешь?
— Ага.
Пил молоко, парное, душистое, и думал, что я теперь самый счастливый и богатый из всех хуторских мальчишек: у меня есть ТОТ, незабываемый день.
* * *
Вышел на автовокзале. Долго ехал, пересаживаясь из трамвая в троллейбус, из троллейбуса снова в трамвай. Сумку держал на коленях. Но вот и улица, моим сыновьям родная, три девятиэтажных дома, за ними, во дворе, мой, пятиэтажный.
— Смотри, что от матери привез, — с порога сказал жене. — Помнишь, рассказывал, как с дедом за кувшинами ездили… Последний!
Жена взяла у меня из рук сумку, расстегнула.
Среди прочего, что я вез, валялись черные глиняные черепки.
На кухне стучала вода, капавшая из крана…
В ночь, когда греют покойникам пятки
Холодной зимней ночью из бумажного мешка ты выдернул пук негнущейся, колкой соломы, похожей на итальянские макароны, сложил ее шалашиком и поджег. Ветер не дал разгореться огню, он сорвал крохотное тельце пламени с трех-четырех занявшихся соломин и быстро стал припудривать снежной пылью. Ты оторвал от мешка клок жестяно гремящей бумаги, помял ее. Подложив измочаленную бумагу под солому, поджег опять…
Пламя катилось по снегу клубками; летели, чертя красные гнутые линии, мгновение живущие искры; огонь лизал снег, как сахар, и, как сахар, снег темнел и таял. Кругом стояли девяти- и двенадцатиэтажные стеклобетонные громады и, равнодушные, стоглазо смотрели на тебя… А ты плясал от холода у стелющегося костра и втайне надеялся, что, быть может, к кому-нибудь придет все-таки вопрос: чего это там делает мужик, зачем палит солому?
* * *
…Первое, что ты помнишь, — ясный зимний день. На розовых стеклах — голубо искрящийся сказочный лес; хата жарко натоплена, бабка Оля веселкой взбивает пыхтящее в деже тесто, дед Максим распарил в печи липовое полено, дерет с него лыко — оно липкое, и горьковато пахнет печеной картошкой, — но все заглушает обволакивающий дух земляничного мыла… И тебе, сидящему в корыте, в теплой пузыристой воде, так хочется запихнуть в рот этот пахнущий летом, знойными полянами розовый брусок, которым мать натирает тебе руки, ноги, спину. Она тебя намыливает и говорит скороговоркой, вполушепот, впридых:
— Сколько родинок у тебя, сынок! Боженька тебя отметил. Счастливым будешь, удачливым… Недаром на Медовый Спас родился… — и легонько кусает тебя за мокрое ухо. Ты вжимаешь голову в плечи, смеешься, захлебываясь от восторга, и веришь, что будешь счастливым и удачливым, и веруешь, что боженька тебя отметил, — ведь это ж мать сказала!
Еще ты помнишь пару голубят, совсем птенцов, только-только оперившихся. Их подарил тебе дед Илюха, материн отец. Летать птенцы не умели — переваливаясь, враскорячку, они ходили по полу, растопырив для равновесия коротышки крылышки с мягкими, будто сырыми перьями, рассеянно клевали что-то с пола восковыми клювами и то и дело опускались на голые сизовато-багровые животы. Они совсем не были похожи на голубей, скорее на цыплят, то ли больных, то ли мокрых… Ты долго наблюдал за ними, и тебе подумалось, что голубята, верно, голодные, раз клюют с пола чего зря, и что надо накопать им червей — помнил, с какой жадностью хватали червей куры, и потому решил, что и для голубей они тоже лакомство. Спрятав гулюшек в ящик стола, ты выбежал из хаты, но на дворе, где плавилось солнце, зелено пылил чертополох, где гудели пчелы и ласточки-касатки кроили выгоревше-синий сатин неба, представил, как душно, темно и скучно птенцам в тесном задвинутом ящике… И, вернувшись, ты приоткрыл его.
А полчаса спустя ты вбежишь с детским помятым ведерком и с настоящей немецкой саперной лопаткой, острой и от земли совсем не тупящейся. Ты вбежишь, запыхавшийся, и остановишься в ошалелом изумлении: на полу валяются прозрачно-сизые перышки, а кот с ворчанием доедает второго голубенка… Ты отбросишь ведерко с колтуном червяков на дне и, ухватив черенок лопаты двумя руками, расставив ноги, замахнешься на кота. Ты будешь целить в голову, в широкий наглый лоб с продольной рыжей полосой, тебе до какой-то жгуче-сладкой радости захочется расколоть его, ты возжелаешь смерти и только смерти этому прожорливому, не помнящему добра бродяге, — и потому рубить ты будешь расчетливо и наверняка, в мгновение вспомнив, как отец забивал корову — так же расставив ноги и ухватив топор двумя руками, — ты даже хакнешь и присядешь в момент удара, чтобы удар был сильнее и с оттяжкой… Но в последний миг кот отпрыгнет, и ты отсечешь ему лишь кончик хвоста, который, отскочив, сам собой зашевелится как живой. А кот, взревев, шмыганет из хаты, и на выскобленных досках пола, на беленой стене, на лопатке и ведерке, на твоих босых ногах — густо зачернеют кровавые брызги…