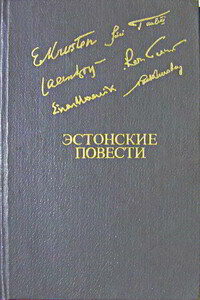IV
Когда рано утром нянечка пришла разбудить Ивана, он уже завязывал шарф.
— Едешь? — спросила. — Может, и не свидимся больше. — Нянечка грустно глядела на него.
— Отбываю.
Иван переложил Верино зеркальце в нагрудный карман, осторожно, бережно пожал нянечке руку, сказал:
— Спасибо за все.
На улице был легкий, сухой мороз. Деревья стояли обновленные. Иван оглядел здание госпиталя запоминающим взглядом и вспомнил, как лихо катился на санках лицом к стоящей на горке Вере, а она закричала: «Берегись!» — и он выкинулся из санок недалеко от столба.
Занесенной снегом тропинкой он шел вдоль леса. Позади остались горка и место, откуда они с Верой начинали путь к селу. Тропинка сменилась дорогой. Колол глаза искрящийся снег. Сухой морозец прихватывал щеки. Иван захотел еще раз оглянуться на лес. Из его глубины вышла и замерла девочка в длинном зимнем пальто и вязаной шапочке. Он узнал Надю, снял перчатку, радостно помахал ей и подумал: «Почему болезнь и смерть выбирают самых лучших, ни в чем не виновных?» Надя ответила коротким взмахом. Иван Челядин уходил медленно, прощально оглядываясь, пока девичья фигурка не затерялась в багряном свечении соснового леса.
I
В зверинце пахло настоянной на солнце полынью. У клеток-вагончиков, вытаптывая разнотравье бывшего ипподрома, толпился народ. Пеликан, одинокий, стареющий, стоял, отвернув от белого света голову: клюв его, острый и желтый, лежал на груди, словно защищал от удара, поджатые крылья были грязны, перья топорщились, как от ветра. На клетке, в самом ее низу, прикрученная ржавой проволокой, висела табличка с именем пеликана. Челядин, студент второго курса пединститута, позвал: «Фома, а, Фома!» Но пеликан, переступив лапами, совсем отвернулся. Челядин вновь робко окликнул его. Фома съежился, еще больше втянул голову с редким хохолком и чуть приподнял неожиданно большие, сильные крылья — закрылся щитом. Тут Челядин вгляделся, увидел на грязном, щелястом полу конфеты в цветной обертке.
— Эх, Фома! — сочувственно сказал он и пошел дальше.
Гиена хрипло смеялась, бегала по клетке, подволакивая задние короткие, словно перебитые, ноги. Два нескладных лисенка играли тряпичным мячом. Волки, закрыв глаза, устало лежали на дощатом полу.
— Чего они лежат-то? — заговорила из толпы женщина с малышом на руках. — Эй, волки, подъем!
— У них же имя есть. — Ни к кому не обращаясь, сказал мужчина в черной форме железнодорожника. — Марс и Дик.
— Дик! Марс! — закричала женщина. Ребенок на ее руках удивленно таращил глазенки. — Хватит им спать-то! За всю жизнь, поди, отоспались, лодыри! Сейчас, кисанька, они подымутся, и ты их увидишь.
Шел мимо служитель в кожаном фартуке, нес ведро с пшеном.
Женщина крикнула ему:
— Товарищ! Вы бы подняли животных! Ребенок посмотрит!
Служитель остановился, поставил ведро, вытер почему-то руки, взял длинный, лежавший на земле, стальной прут и сказал:
— Вставайте, ребята.
Волки не двинулись с места. Тогда человек в фартуке просунул сквозь решетку прут и легонько ткнул старого волка. Тот открыл глаза, но не пошевелился.
— Вставай, Марс. Дите смотрит.
Волк снова закрыл желтые с огоньком глаза.
— Тебе говорят! — Мужик с заметной опаской толкнул волка в бок посильнее. Марс поднялся, а с ним и молодой волк.
— Худые-то какие! — разочарованно протянула женщина. — Ноги что плети! Мышцев нет! Не кормите, что ли?
— Как же! — ответил служитель в фартуке. — Норму даем! Мясо! Кости!
— Ну да, норму? Воруете, поди, у животных!
Мужик вскинулся:
— Не хулиганьте, гражданка!
День был жаркий, безоблачный. В соседнем вагончике, разделенные стальной сеткой, сидели медведь и медведица.
Бурый медведь собрал у клетки добрых два десятка людей. Большой и степенный, жмурясь от удовольствия, он умело снимал обертки с конфет и добродушно облизывался. Кланялся медведь, когда все на полу было съедено; кланялся профессионально, с веселыми ужимками, улыбаясь, низко сгибая морду, воровато оглядываясь. Люди на это громко смеялись. Топтыгин вдруг кувыркнулся, но места не хватило — кувырок вышел тяжелым и неуклюжим. Зрители благодарно захлопали. Медведь встал на задние лапы, макушкой достал потолок, хлопнул одной лапой о другую и зарычал протяжно, жалуясь.