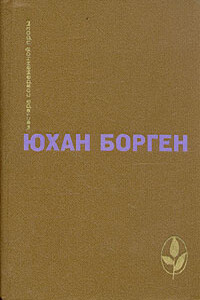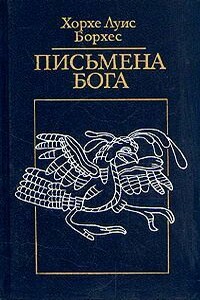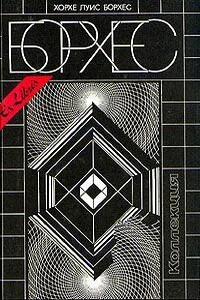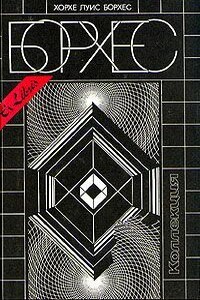- Зачем ты ко мне пришел? - спросил он.
- Зачем в нынешние времена приходят друг к другу? Поболтать. И еще вдруг у тебя есть диван, на котором можно поспать...
- Несколько ночей?..
Вилфред кивнул.
- Если только я не помешаю...
Теперь Роберт уже без всякой просьбы налил ему стакан все той же дрянной водки.
- Конечно, - сказал он. Улыбка не сходила с его лица. - Кстати, от какой из двух сторон ты прячешься?
- От обеих.
Роберт сел. Он раздумчиво кивнул. ("Господи, ему ли изображать из себя мыслителя!")
- Ты, кажется, очень устал?
- Ты попал в точку. - Вилфред выпрямился в удобном хозяйском кресле. Его то клонило ко сну, то вдруг охватывало неестественное оживление. - А вот ты, напротив, выглядишь помолодевшим, словно заново родившимся. Может, поделишься тайной, каким кремом ты мажешься на ночь?..
Роберт рассмеялся.
- Мне диета на пользу. Пудинг из акулы или еще бог знает из чего. Из брюквы. Я думаю, все мы, кто вынужден жить на паек...
- Хочешь намекнуть, что я купаюсь в мясном соусе?
Вилфред насмешливо тронул свои скулы, словно у мертвеца выдававшиеся под тонкой кожей. Роберт подумал: "Если бы рафаэлевский ангел несколько месяцев сидел на голодном пайке..."
- Не знаю я, в чем ты купаешься, - добродушно сказал он.
Вилфред встал, шатаясь от усталости.
- Разговор двух старых друзей в эти дни приобретает порой налет нездоровой враждебности... - Он оглянулся вокруг. - Ты, кажется, упомянул про какой-то диван.
Роберт вяло показал рукой в сторону портьеры.
- Если только там уже не спит кто-то другой...
Чуть погодя Роберт стоял, просунув в щель между портьерами свечу, и внимательно разглядывал своего старого друга. Тот сразу же погрузился в глубокий сон - как только упал на диван. Роберт заботливо прикрыл спящего одеялом. Его угнетало тягостное чувство стыда, но он не мог понять, стыдится ли он того, что приютил сомнительную личность, человека, о котором говорили, что его не мешало бы убрать... или того, что он скрыл свое природное гостеприимство под маской холодности. Что, в сущности, знал он об этом бывшем друге своем из лучших времен, которому втайне всегда завидовал, оттого, что тот добивался всего, что желал, - рыцарь легкомыслия и незаслуженной удачи, человек, с которым он некогда делил и горе, и радость. Дружба их возникла много лет назад, в далекие годы первой войны, когда и он сам, и вся его компания беспечно плыли по воле волн - волн легкомыслия и равнодушия. И что, в сущности, знали люди, желавшие его убрать, об этом падшем ангеле, что сейчас спал на его диване таким глубоким сном, каким спят только праведники? Это худое лицо, похожее на смутный набросок в путевом блокноте художника, хранило знакомое выражение бесхитростной робости, в свое время покорившее всех. Безмерная растерянность охватила доверчивую душу Роберта, столь уязвимую для злой воли.
Кто вообще знает хоть что-нибудь об этом вечно мятущемся дитяти с множеством несбывшихся дарований? Годами его чуть ли не боготворили за незаурядность, зато потом - даже не высмеивали, просто забывали о нем, как забывают всех, кто не оправдывает надежд или же совершает недозволенные виражи в своей, казалось бы, предначертанной карьере, из-за чего окружающие остаются с длинным носом - и это в награду за все их восхищение и преданность...
Роберт вздрогнул: он вдруг увидел руку. Чуть заметно сдвинулась портьера, и луч света выхватил из тьмы желтый, как воск, протез, покоившийся на груди спящего. И показалось вдруг, будто это и есть самая живая, единственная живая часть существа, лежащего на диване. И Роберт впервые понял, что когда-то, да и всегда, его притягивала именно эта тепличная искусственность Вилфреда, бесплотность, что ли. Необузданность его и вместе с тем утонченность, порочность, и совершенная невинность, и в придачу этот дешевый цинизм, изумлявший наивных его соотечественников, привыкших воспринимать каждое слово всерьез, при всей испорченности - на словах, и на деле - того круга, в котором оба в ту пору вращались.
И еще кое-что другое понял он, стоя вот так и разглядывая друга, потому что теперь видел его в новом ракурсе: полное безразличие спящего, казалось, еще больше обостряло его собственную, недавно пробудившуюся тягу к справедливости и добру. Трагическая участь родины, все страшные события, обрушившиеся на нее, начиная с того самого непостижимого апрельского дня... разве не угадывалась за всем этим упорядочивающая рука, встряхнувшая ватный хаос жалких и вялых судеб?