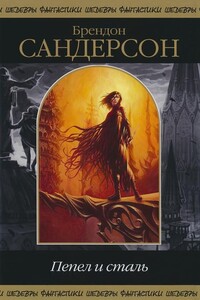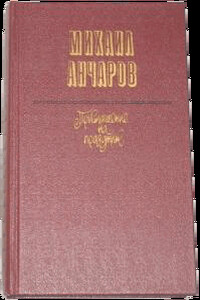– А как же…
Но, оказывается, сегодня нас ждет ее мама и увольнительная для меня уже устроена — мама звонила начальнику училища.
Хорошо было идти с ней по улице. Офицерские патрули стеснялись подходить, хотя по мордам парней было видно, что им этого очень хочется. Золотые погоны вспыхивали на каждом перекрестке, закатное солнце било в зеленые глаза с крошечными зрачками, шелковые волосы и шелковое платье просвечивали, и у всех встречных глаза становились грустными, когда мы проходили.
Я все помню. Я помню, какой был лифт, какая квартира, какая молодая мама у нее была, и как меня там принимали, и какими обедами кормили. Я помню ощущение тепла и дома, и как приятно было болтать с мамой, когда она мне говорила, что я красивый. И в полевой сумке у меня каждый раз оказывалась горсть «Казбека» и трофейных немецких сигар, которые получали по генеральскому пайку. Курить в доме было некому, а мама любила, когда в доме пахло табаком. Я помню, как в первый раз я рассердился и не взял курева, и как мама рассердилась на это, и как Лелька была рада, что все идет хорошо и мирно. И я привыкал к даровому куреву, ребята в казарме привыкли к «Казбеку». Сигары я курил сам. Они мне все больше нравились, и ребята говорили, что я похож не то на Черчилля, не то на Рузвельта, не то на Бидо — все тогдашние имена, — и однажды утром я над своей койкой обнаружил флажок неизвестной державы с надписью «Экстерриториальность» и понял, что пора не то кончать, не то начинать всерьез.
В ближайшую субботу, когда я пошел в гости, оказалось, что у Лельки приступ печени. Приехала врачиха, сделала укол пантопона, и Лелька перестала стонать, стиснув зубы, и заснула. Мы с мамой отвезли ее в больницу, и в приемной я чуть не подрался с каким-то сержантом, который сопровождал в больницу интересную даму и норовил пролезть без очереди.
Потом нам выписали ночные пропуска, и мы шли пешком по ночным улицам, где маскировка уже соблюдалась плохо, потому что война ушла на запад. Всю ночь мы просидели возле телефона, и я выкурил несметное количество папирос «Казбек», которые без всяких коробок стояли торчком в хрустальной вазе, и всю ночь мама рассказывала о своей жизни. Как она была кассиршей на стадионе и как в нее влюбился молодой помком-взвода, как они поженились и еле сводили концы с концами, как она хотела учиться и не удалось, потому что появились дети, а мужа послали в военную академию, и он умолял ее потерпеть, пока он кончит, чтобы дети не погибли, а потом было поздно учиться, и она ему до сих пор простить не может. Но зато у нее теперь дом как дом, и мужу после финской кампании дали генерала, и она была в Кремле, у нее там ноги отваливались от боли, потому что заграничные туфли были ей малы и она еле втиснула в них ноги.
А когда она кончила рассказывать мне свою жизнь и я собрался идти, так как утром должны были выдавать новые шинели, она сказала, что завтра мы пойдем в Центральный военторг и будем шить мне шинель в спецателье, поэтому чтобы я шинель не брал, а взял отрез. А во рту у меня почему-то был вкус мыла.
Я взял отрез серого солдатского сукна, и в спецателье мне построили такую шинель, что пальчики оближешь, и мама купила мне без всяких талонов— генеральскую фуражку. Я снял шитье и переставил на околыш свою звездочку. А когда я спускался в метро, мне с ужасом козырнул маленького роста майор, которому не видно было мое звание, а виден был только золотой блеск, и моя шинель, и моя фуражка, которая даже без шитья чем-то неуловимым отличалась от обычных пехотных. Лелька была еще в больнице, в казарме усидеть в такой форме не было никакой возможности, а служил я исправно, и у меня неплохо получались и приемы с ножом, и броски гранаты, и преодолевание полосы препятствий, и тактические маневры взвода на картах-двухверстках, и начальство меня любило и только опасалось, как бы я не остался в Москве, если выйду замуж за ефрейтора Лельку, поэтому увольнительные я получал хоть и с кряхтеньем, но регулярно.
Я взял увольнительную. Я подумал — увольнительная, ведь это меня увольняют. А почему у слова «увольнять» оттенок, похожий на вежливое «пошел вон»? Ведь корень этого слова — воля? Да, конечно, но у слова «воля» тоже два смысла. Это и свобода, раскованность, это и устремленность, решимость достичь цели — человеческая воля, одним словом. И вот меня уволили, чтобы я проявил свою свободу воли. А какая у меня свобода воли, если я весь построен из тщеславия и пустых желаний?