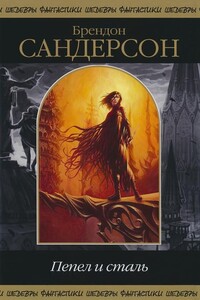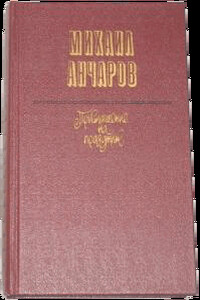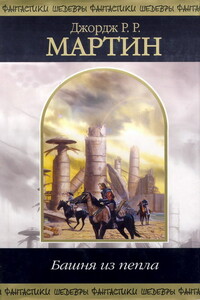– Я, пожалуй, пойду, — сказала она.
– Подожди. Не так сразу, — сказал он.
– Хватит пить.
– Молодой человек, хотите? — спросил он.
– Хочу, — сказал я.
Я хотел чего угодно. Только бы не думать о том, что пал Мадрид. Вино я уже пробовал — наливку, которую мама делала летом, — бутыль «четверть», набитая ягодами с сахаром, потом на солнечный подоконник, а потом отпить пару глотков, пока отец с матерью на работе.
Когда я вернулся с чистым стаканом, я услышал, как она сказала:
– Ты приехал совсем другой, — сказала она. — Это все твоя проклятая геология. Я, пожалуй, пойду.
– Подожди. Пока будильник зазвонит. Они меня совсем не стеснялись. На дне моего стакана покачивалась бесцветная жидкость.
– Каждые три месяца ты возвращаешься другой, — сказала она. — Как только ты сдаешь багаж, я знаю, приедет другой человек.
– Однако за время пути собака могла подрасти, — сказал он. — Ну, выпьем за встречу. Или нет, не за встречу. За что?
– За Мадрид, — сказал я.
Водка оказалась невкусной. Немножко перехватило горло, и все. Когда я поставил стакан, я увидел, что пожилой мужчина плачет. Он протянул руку и стиснул мне запястье так, что я еле выдержал.
– Перестань, — сказала она.
– Тебе не понять, — сказал он. — Отстегни портфель.
Портфель был набит бумагами. Он убрал руку и достал какие-то листки с фиолетовыми канцелярскими буквами и вытер лицо бумагой.
– Господи, что ты делаешь! — сказала она брезгливо.
– Неважно. Старые отчеты. Спасибо, парень. Ей не понять.
И тут будильник зазвонил. Она открыла коробку и погасила звон.
– Я, пожалуй, пойду, — сказала она. А он все плакал, и сморкался, и вытирал лицо папиросной бумагой, которой было полно в этом портфеле — всякие там протоколы и отчеты групп, которые еще не вернулись с поля. А когда они вернутся, бог его знает. Потому что поле огромное — до небес это поле, и если по-настоящему говорить, то группы никогда не возвращаются из поиска, а возвращаются совсем другие группы, которых никто не ждет и они сами не ждут, что так изменятся и возмужают за время пути.
Когда я пришел домой, отец сидел за обеденным столом и чинил синий карандаш. Он его уже сточил наполовину, и клеенка была засыпана стружками и синей пылью. Карты Испании на стене не было. Он поднял на лоб очки в железной оправе, оглядел меня и разжал челюсти.
– Ты выпил, поросенок?
– Да. Немножко. Хотел попробовать. Я совсем не боялся, хотя всю дорогу думал, как об этом сказать дома.
– Немножко можно, — сказал отец. Карты Испании на стене не было. Звезды сыпались в раскрытое окно, самолеты шли над Памиром, мне было девятнадцать, я лежал и думал: «Мы разобьем вас, гады!» Я лежал и думал: «Вы еще не поняли, на кого вы замахнулись, ничего, вы это скоро поймете. Мы еще попляшем в вашем проклятом городе. Съедемся со всего света и попляшем». Я, конечно, тогда не мог представить себе, что когда-нибудь будет возможен международный фестиваль — явление и сейчас для меня почти сказочное.
Здесь, в Фергане, один худенький мальчик, игравший по слуху на старом госпитальном пианино, научил меня теперь уже древнему, но стремительному фокстроту «Укротитель змей». И когда я в очередь с ним садился за пианино и видел, как отплясывают госпитальные сестрички и выздоравливающие и какие лица у сидящих возле стен с костылями, я думал:
«Ни фига у них не получится, они не пройдут, гады, „но пасаран“, а мы всюду пройдем, „пасарэмос“! Вот так и надо укрощать змей тьмы, похожих на свастику!»
Я, конечно, не верю, что когда-нибудь помру. Но если это случится, я хочу, чтобы в мой последний час меня окружали самые веселые девчонки тех будущих времен, которые смеялись бы и отплясывали ископаемый фокстрот «Укротитель змей».
Трубы заиграли что-то, не сразу вспомнишь. Потом вспомнил — из «Арлезианки». До сих пор не знаю, о чем эта опера. Но однажды я вдруг сообразил, что «Женщины Арля» Ван-Гога — это про арлезианок и про то, какие там деревья, похожие на языки зеленого костра, раздуваемого трубами неведомой музыки.
Всякая картина неподвижна, даже если она изображает движение. В одних картинах — застывший крик, в других — тишина радости или меланхолии, в третьих, как у никелированных собак на старых «линкольнах», — тоска застывшего полета, в четвертых — стылая красота монумента или каменного пейзажа с пирамидами. Картины Ван-Гога неподвижны, как динамо-машина под током, на корпус которой ставят гривенник ребром, и он не падает, а если притронуться к валу — на руке ожог от бешеного вращения. Картины Ван-Гога находятся под.душевным напряжением в миллион вольт. Какой-нибудь осенний пейзаж с огородами и застывшим экипажем на мокром шоссе похож на внутренность трансформаторной будки, где приветливо откинутая дверь не дает видеть предупреждающего черепа, и только в волосах иногда проскакивают искры, как перед грозой.