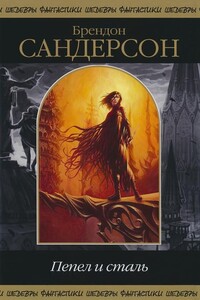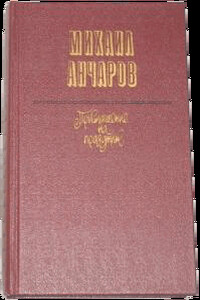Полная луна светит сквозь разбитые стекла городской управы. На столе, накрытая до горла шинелью, лежит Шурка-певица. Она умирает. Она сильная и горячая, и смерть не может никак с ней справиться. На полу стоит таз с кровавой ватой, бинтами и ненужными теперь инструментами. Лицо Шуры освещает сильная лампа, свисающая с потолка на шнуре. За окном работает движок. Рядом со мной стоят Краус и полковник-танкист с мокрыми от слез усами. Хирург в белом халате держит ее руку, считая пульс.
Шура открывает глаза.
– Не успела я попеть, — говорит она. — Тут меня и убили…
– Молчите. Нельзя разговаривать, — произносит хирург и берет шприц.
– Это вы бросьте, — говорит Шура. — Когда и поговорить-то. Алеша, хочу, чтобы музыка… для меня одной…
Я кидаюсь из комнаты.
Выскочив во двор, я подбегаю к грузовику с глухо работающим мотором и влезаю внутрь. Оттолкнув радиста, я дрожащими пальцами перебираю пластинки и, найдя нужную, передаю ее радисту.
– Включай… — говорю я и выскакиваю наружу.
Я бегу обратно, стараясь не задеть провод, тянущийся от машины на второй этаж к сияющему окну. Я скачу по мраморной лестнице через две ступеньки и слышу, как большие репродукторы, предназначенные для агитации противника, хрипят и начинают играть Большой вальс.
Я прибегаю и слышу голос Шуры.
– …Я жила счастливо… — убежденно говорит она. — Все у меня было… Любовь безответная была. Дочь была. Себя не жалела, и люди хвалили… Все я видела, во всем участвовала. Разве что на Луну не летала… Я Луну в первый раз в революцию увидела… Мне пять лет было… Все выше меня ростом были — женщины, дядьки, столы даже… Я только ноги и помню… Раз из богатого дома собачку вывели погулять и шоколадку ей кинули. А я на помойке играла. Я шоколадку схватила — ив рот. Собачка залаяла, а я со страху шоколадку проглотила. Вольно очень. Я заплакала. До темноты плакала… Тут вдруг ноги вокруг меня побежали. Ноги бегут, и я за ними… Страшно… Добежали куда-то до большой пушки, а пушка как выстрелит. Я и закричала. Слышу, кто-то чудно так говорит: «Ребьенок… ребьенок… — и меня на плечо сажает. — Не плакай, — говорит дядька. — Туда летает, туда…» И пальцем показывает. Я смотрю, а на небе новая луна светит, круглая… Пушка эта благушинская теперь в Москве у Музея Революции стоит. Что, Краус? Правду я говорю?… Ты тогда молодой был, красивый.
Краус резко отворачивается к стене. «Я люблю тебя, Вена… Горячо, неизменно…» — страстно и высоко поет голос во дворе.
– А как я пела!… Вот Алеша скажет, как я пела… — сказала она и заплакала.
– Ты лучше всех пела, — говорю я немеющими губами. — Лучше всех ты пела…
– Прощай, Алешенька… Поцелуй папу… Ухожу… — говорит она.
Она умолкает, и голова ее с открытыми глазами откидывается. Хирург перестает считать пульс и отпускает ее руку.
В разбитое окно светит полная луна. Луна тронулась в путь, иногда резко останавливаясь, как будто натолкнувшись на что-то.
Это Катя плачет. Она всхлипывает и вытирает слезы руками. А слезы все текут и текут, и она не может с ними справиться. И мне печально, и немного смешно, и почему-то даже обидно чуть-чуть. Может быть, потому, что я уже не могу так реагировать на чужой рассказ. Это прерогативы ее возраста. А какие прерогативы моего возраста? Черт его знает, какие прерогативы.
Я вытаскиваю большой платок. Вот мои прерогативы.
– Ну-ну, — говорю я. — Не надо так. Это все давно было.
Детские рыдания сотрясают ее. Я вытираю ей нос, и она не отстраняется и смотрит поверх платка ничего не видящими глазами.
– Действуйте, действуйте, — говорю я и оставляю платок в ее руках. — Знал бы — не рассказывал.
Она закрывает платком лицо, вытирает слезы и таращит на меня глаза.
– Зачем вы рассказали мне? — говорит она. — Кто вас просил?
Я молчу. Сама же просила, это ясно. А впрочем, действительно, кто меня просил? Сдержанность — вот прерогативы моего возраста. Отвратительное словечко. Похожее на червя. В протухшей воде копошились прерогативы.
– Я никогда не смогу быть похожей на этих людей, — говорит она.
Фу, господи, сразу бы так и сказала!
– Пустяки, — говорю я. — Никто этого не знает. И прежде всего вы сами. И потом ни на кого не надо быть похожей. Каждый сам по себе. Хорошим человеком можно быть на тысячу ладов. Время подскажет.