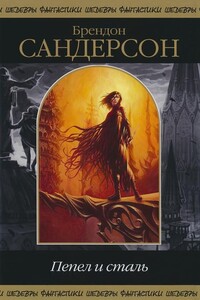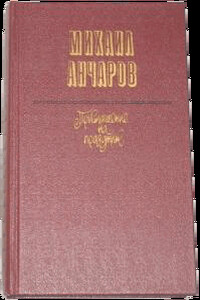Короче говоря, война кончилась, все, кто остался жив, стремились демобилизоваться, а Гошка служил.
Всем этим болели и два Гошкиных приятеля. Но у них это проходило легче. Потому что оба они выражали себя лучше всего молча — Костя в живописи, а Лешка в научных экспериментах. Гошке же надо было непременно все произнести вслух, слово томило его.
И вот они вышли все на первый утоптанный снег, на медленный, бесшумный от снега Кузнецкий, и Николай Васильевич вышел, лихо заломив шляпу, сел в такси и уехал, попрощавшись и сказав:
— Договорились?
Это насчет посещения его мастерской.
— Ну что? — спросил Костя.
— Не тронь его, — оказала высокая, — Гоша сейчас как во сне.
А вторая сказала:
— Это он умеет, очаровывать. Вот приедем в мастерскую, он всем наговорит тысячу вещей о Возрождении, закидает именами художников, он это умеет.
— Действительно умеет? — спросил Гошка.
Тут они сами наговорили три короба всякой всячины, и хотя все это было насчет его образованности и эрудиции, то есть о том, к чему должен стремиться дипломник-искусствовед, как-то так получалось, что их эрудиция — это хорошо, это прилично, а его эрудиция нехороша, неприлична и почти подозрительна. Потому что, с одной стороны, он как бы посягал на искусствоведово добро, а с другой — пускал это добро в оборот, оно у него плясало, это добро, и выделывало антраша, в общем работало, а не хранилось на полках с обозначениями школ и течений. И дипломницы даже завывали от раздражения, они кричали грубыми словами — эклектизм, эпигонство, нет своего лица, нет рисунка, нет композиции, эстетствующий натурализм, архаический формализм, провинциализм, изм, изм, — кричали они и притопывали озябшими ногами.
— А фашизма там нет? — спросил Панфилов.
И тогда и теперь Гошку интересовало только это.
— А фашизма там нет? — спросил Панфилов.
Они испугались и затормозили, сказали, что нет, фашизма там нет.
— Тогда, может быть, это своеобразие? — спросил Гошка.
Они обиделись и ушли. Потому что это им в голову не приходило, а пришло в голову постороннему военному.
— А в общем-то он человек странный, — сказал Костя и добавил: — Впрочем, только человек и бывает странным. Свинство начинается со стандарта.
— А что, они правду говорили, что он плохой художник?
— Правду. Только он не просто плохой художник, он плохой великий художник.
— Объясни, — сказал Лешка.
Он все время молчал. А когда начинали разговаривать — уходил смотреть сирени Кончаловского, портрет Алексея Толстого со снедью, битую дичь, зимние окна. Долго стоял у портрета жены Алексея Толстого, красавицы. Потом сказал, что она похожа на Шурку-певицу. Была такая женщина у них на Благуше до войны. Инструктор райкома комсомола.
— А ты понимаешь, Памфилий? — спросил Лешка.
— Кажется, Рыжик.
Была такая книжка из серии «Жизнь замечательных людей», называлась «Стейниц и Ласкер». Про шахматистов. Вот чем Гошка никогда не мог увлечься — шахматами. Чересчур нервная игра. Как рыбная ловля. Хочется кому-то в морду дать, когда не клюет, а некому. Так вот, в этой книжке сравнивались Стейниц, открывший шахматную теорию, — он восемь лет был чемпионом мира, и Ласкер — двадцать семь лет был чемпионом мира, великий игрок. И там была поразившая Гошку мысль. Там говорилось, что если из истории шахмат изъять Ласкера, то шахматная история повернула бы в другом направлении. *
— Понял, — сказал Лешка. — Хотя Стейниц играл хуже Ласкера…
— Значит, по-твоему, — сказал Памфилий Косте, — если изъять его из истории живописи…
— Сходишь, сам узнаешь что к чему, — сказал Костя.
— Я знаю одно, — сказал Гошка, и это была чистая правда, — я хочу познакомиться с человеком, который умеет очаровывать. Потому что меня давно уже что-то никто не очаровывал. — И это была чистая правда. — И я хочу, чтобы мне наговорили тысячу вещей о Возрождении и закидали именами художников. Не возражаю. Пойдем, ребята?
— Я не пойду, — сказал Костя. — Опасно.
— Почему? — спросил Лешка.
— Он мне как человек нравится безумно. Боюсь влипнуть в ученики. А он всех учеников подминает.
— Ну, мне это не грозит, — сказал Памфилий. — Я не художник. И потом, может, его ученики не тому у него учатся, чему нужно.