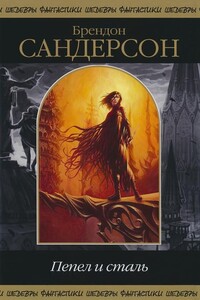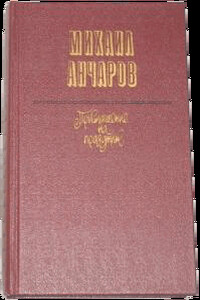— Але! — сказал он. — Поглядите… Вам не кажется, что мы с ней похожи друг на друга? Правда, похожи?
И тут все обратили внимание на свинью и на Гошку и начали смеяться, и Надя тоже смеялась радостно и зло, потому что ей было стыдно за Гошку, за снисходительный смех вокруг, за его шутовство, за то, что он принял удар на себя и тем разрушил тот облик; за который она цеплялась, чтобы объяснить и себе и всем, почему она с ним, а не с кем-нибудь из этого благополучного быдла.
А Гошка опять все поставил вверх ногами, и как же можно было начинать с ним новую жизнь, если он все оплевывает, а этого нельзя касаться, потому, что не нами все это заведено и главное — это беречь репутацию, а если тебе твоя репутация не дорога, то мне моя дорога, потому что я хочу жить чистой жизнью, я не Нюшка какая-нибудь с твоего двора, я из другого клана, к которому если ты хочешь принадлежать, то, будь ласков, не отличайся от Рудика, Виктора и Генриха, потому что других нет, а у них твердое место, ты-то ведь не находишь себе места и болтаешься вверх и вниз по всей лестнице и никто тебе не свой.
— Пушкин, — сказал Гошка.
— Что? — презрительно спросила Надя.
— Пушкин мне свой.
И хотя легко было смешать Гошку с грязью за то, что он, заливной поросенок, произнес всуе святое имя и осмелился сказать, что Пушкин ему свой, ему, благушинскому выкормышу, майоровской шпане, Надя этого не сделала, а только сразу замолчала, а потом быстро заговорила о чем-то другом, и стала совсем красивая, и стала смеяться, играя ямочками, чтобы заглушить Гошку, чтобы помешать ему развивать эту тему.
Потому что Гошка знал твердо, и она знала, что он знает, что во всей истории с Пушкиным, с его романами, с его величием и гармонией, со всем культом Пушкина у них в доме, со всем, что его окружало — от зеленого шелка и орехового дерева мебели тех времен до туалетов Натали Гончаровой, от полузабытых поэтов до гусиного пера, во всей этой истории, от Анны Керн до черепаховых вееров и страусовых перьев, во всей пушкинской истории, поклоняться которой означало самой быть окутанной дымкой пушкинской поэзии, во всей этой истории с Пушкиным ей лично больше всего нравился — Дантес.
Вот в чем дело, граждане… Вот какая история.
Оба они знали твердо, что если копнуть поглубже и спуститься на самое дно души, еще дальше, чем алтарь стеклянного поросенка, то там мы обнаружим не Пушкина, а Дантеса, его убийцу, розового кобелька с пушистыми усами, который сначала очень испугался, потому что влип крупнее, чем рассчитывал, но потом успокоился и прожил чуть не до двадцатого века и тем доказал устойчивость стеклянной свиньи, на которую все смотрели и делали вид, что не понимают, в чем тут дело.
— Выскочка, циркач… — тихо сказала Гошке Надя, когда они наконец вышли на тихую ночную улицу где-то в Замоскворечье.
Ночка была теплая, фонари ласковые, московские, и, несмотря на первый час ночи, было еще много людей на улицах, на углах переулков, на скамейках скверов, возле досок почета, под светящимися часами и у чугунных перил потухших витрин.
Они шли веселые, юные и опьяневшие, хорошо одетые и устойчивые, и люди улыбались, глядя на них, на молодцов, окончивших школу и начинающих новую устойчивую жизнь, которая стала лучше и стала веселей, и в конце концов, черт возьми, разве не в этом дело! И Гошка глядел со стороны, как они веселятся, как Виктор и Генрих и даже толстый Рудик затеяли беготню, и Надя бежала под фонарями, совсем не так, как раньше, утомленно и еле двигая вытянутыми ногами, подражая какой-то из своих теток, а легко, но и резво, показывая, что она открыто переменила позицию и теперь ей не нужна никакая дымка, если эта дымка требует чего-то большего, чем пятерка по литературе. К черту всякую дымку, если начинается новая устойчивая жизнь и можно бегать под фонарями, а потом возвратиться к компании, красиво и тяжело дыша, и торжествующе глядеть в глаза своему приятелю, который прекрасно понимает, что это в общем-то конец. Потому что ты сопляк, а я женщина, то есть жизнь, и жизнь тебя еще многому научит, если не перестанешь заглядывать на дно сосуда, — Пушкин ему свой, видите ли, ну так припомни, чем кончаются пушкинские истории, и потом цени, что я вежливая и согласна считать Дантеса ниже этого поэта. Но если ты меня выведешь из себя, то получишь правду, которая тебе вряд ли понравится, потому что для чего Дантес — я знаю, я от него нарожу детей, а для чего Пушкин — еще никому неизвестно, разве что украшать мою и Данте сову жизнь…