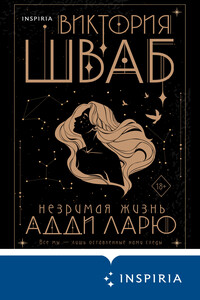– Что вы тут делаете? – спросил тот изумленно.
– А ты что тут делаешь? – огрызнулся Рай.
– Тебя ищу, – отозвался он, и в тот же миг Лайла спросила:
– Ты видел Келла?
Алукард приподнял бровь:
– Мы старательно избегаем друг друга.
Рай раздраженно хмыкнул и промчался мимо капитана, но на лестнице столкнулся с юношей. Он с трудом узнал бывшего стражника без доспехов.
– Гастра! Ты видел Келла?
– Да, сэр, – кивнул Гастра. – Только что, во дворе.
У принца гора с плеч свалилась. Он метнулся было дальше, но Гастра добавил:
– С ним кто-то был, мне кажется. Женщина.
– Какая женщина? – насторожилась Лайла.
– Тебе кажется или?.. – переспросил Алукард.
Гастра растерялся.
– Я… не помню ее лицо. – Он наморщил лоб. – Странно, у меня всегда была хорошая память на лица. В ней что-то было… такое…
– Гастра, – сурово сказал Алукард. – Раскрой ладони.
Рай сначала даже не заметил, что юный стражник крепко стиснул опущенные руки.
Гастра опустил глаза, как будто он и сам этого не замечал. Потом протянул руки и разжал кулаки. Одна ладонь была пуста, на другой лежал маленький диск с нацарапанной руной.
– Странно, – сказал стражник. – Ничего не понимаю.
Но Рай уже мчался по коридору, Лайла за ним, а Алукард еле поспевал следом.
Келл взял Ожку за руку.
– Благодарю, – сказала она, и ее голос звенел от счастья. Другую руку она прижала к кровавой метке на дереве. – Ас тасцен. – И в тот же миг дворец исчез, сменившись улицей Красного Лондона. Он не сразу понял, где они очутились. Впрочем, куда важнее то, где они окажутся через минуту.
В этом Лондоне здесь была лишь узкая улочка с таверной и забором.
А в Белом Лондоне рядом находились ворота замка.
Ожка достала из-под белого плаща амулет, прижала окровавленную руку к каменной стене, почти скрытой зимним плющом. Остановилась, посмотрела на Келла, дожидаясь разрешения, а Келл невольно оглянулся на королевский дворец, еще видневшийся вдалеке. В его душе что-то затрепетало – вина, страх, колебания, – но Ожка быстро, пока он не передумал, произнесла заветные слова, и мир расступился. Красный Лондон исчез, Келл сделал шаг и очутился в каменном лесу перед замком.
Но только этот лес был уже не каменным.
Обыкновенный лес, полный деревьев, сквозь голые ветки просвечивает голубое небо. Келл вздрогнул: с каких это пор в Белом Лондоне появились яркие краски? Этот мир был не таким, каким он его помнил, и не таким, о каком она рассказывала, – больным и умирающим.
Здесь не было ничего ущербного.
Ожка стояла у ворот, прислонившись к стене. На ее лице играла кошачья усмешка.
За краткое мгновение Келл оценил перемены – траву под ногами, солнечный свет, пение птиц – и понял, что жестоко ошибся. Потом послышались шаги, и он очутился лицом к лицу с королем.
Тот стоял поодаль, скрестив руки на груди и высоко подняв голову. Глаза у него были разные – один изумрудный, другой черный.
– Холланд?
Это имя слетело с губ скорее как вопрос, потому что этот человек мало чем напоминал Холланда, каким его помнил Келл. Того человека, которого он четыре месяца назад победил в бою и сбросил в бездну. В их последнюю встречу Холланда отделяло от смерти несколько биений сердца.
Тот Холланд никак не мог здесь стоять.
Тот Холланд вообще не мог остаться в живых.
Но перед ним все-таки Холланд, и он не просто жив.
Он преобразился.
На его щеках играл здоровый румянец, какой возникает от избытка жизненных сил, а волосы, которые, несмотря на возраст, всегда были пепельно-серыми, теперь блестели чернотой, резкими линиями очерчивая виски. А когда Келл встретился взглядом с Холландом, этот человек, маг, король, антари искренне улыбнулся, и это простое движение лица преобразило его даже сильнее, чем новая одежда и здоровый вид.
– Здравствуй, Келл, – сказал Холланд, и тот в глубине души порадовался, что хотя бы голос антари остался знакомым. Негромкий (он никогда не был громким), но повелительный, с едва уловимой резкой ноткой, из-за которой казалось, что он всегда кричит. Или визжит.
– Тебя здесь быть не должно, – сказал Келл.
– Тебя тоже, – Холланд выгнул черную бровь.
За спиной у Келла едва уловимо мелькнула тень. Он потянулся за ножом, но было поздно. Едва пальцы успели коснуться рукояти, как что-то холодное и тяжелое сомкнулось на горле, и мир взорвался болью.