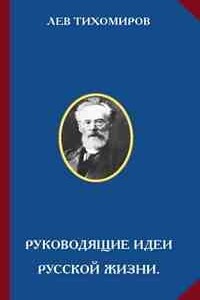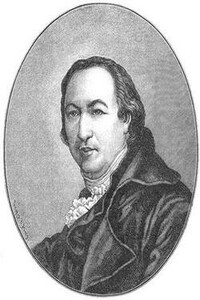Но своеобразнее всего вид бухты зимой, когда она замерзает. В Керчи зимует множество кочерм, которые стоят совсем близко одна от другой. Когда между ними стоит сплошной лед, то на бухте образуется нечто вроде деревни. На кочермах поднимается дым из жестяных печей, между кочермами всюду видны тропинки, по которым моряки ходят друг к другу и на берег, видны и дороги, по которым движутся сани; а ночью, когда на всех судах засвечены огоньки, трудно и представить себе, что находишься на воде, а не на берегу.
Для моряков это время наибольшего отдыха и наиболее веселое. Они делаются сухопутными жителями. Но зато когда подойдет весна и льды начинают трогаться, наступает время постоянного труда и беспокойства. Льдины постепенно выносятся течением в пролив и потом в Черное море. Они могут сорвать обмерзшую кочерму с якоря и затащить с собой в море, могут и совсем раздавить ее. Поэтому приходится постоянно прорубать лед и по возможности раскалывать его вокруг каждого судна. Случаются трагедии с кочермами, случаются и с отдельными людьми. Один наш гимназист, кажется Стафипуло, очутился на оторвавшейся огромной льдине, которую стало уносить в море. Ему угрожала гибель, но, к счастью, его успели снять со льда на какую-то кочерму.
Море было любимым местом наших прогулок. Но мы ходили и к Катерлезу, и в сады. Городской сад за несколько верст от Керчи был очень хорош — обширный и густой, как лес, с высокими насыпными горками. В том же направлении находился фруктовый и виноградный сад Киблера, где мы задаром объедались превосходным виноградом. Обширный сад Гущина, разведенный, по фантазии владельца, довольно высоко на горе, почти не давал фруктов, несмотря на искусственную поливку деревьев, но туда тоже ходили гулять. Наконец, в мало-мальски сносную погоду каждый день можно было встретить группы гимназистов на горе Митридат, с которой открывается чудный вид на бухту и пролив. На самой верхушке Митридата стояла часовня, пустая и без всякого употребления. Ее зачем-то построил градоначальник. Над часовней, на платформе, вырытой на крутом спуске Митридата, была церковь в виде греческого храма, но в ней тоже не было службы, потому что гора угрожала обвалом. В горе было несколько небольших подземных галерей, выкопанных при открытии памятников древности. Гуляющие по Митридату тоже всегда посматривали, не попадется ли какая-нибудь античная статуэтка или осколки сосудов. Я и сам здесь нашел однажды обломок вазы с прекрасно сохранившимся изображением Минервы.
Жизнь у Серафимовых протекала тихо и однообразно, мысли, дела и разговоры вращались в кругу мелких житейских потребностей, не слышно было никогда толков и бесед на темы гражданские, политические, философские, религиозные. Только Никола-брат иной раз пускался в политику. О нас, детях, Фотинья Федоровна, а потом Елена Яковлевна заботились добросовестно, держали в чистоте, как, впрочем, и весь дом Серафимовых содержался в образцовой опрятности. Кормили нас хорошо и в гимназию всегда давали с собой завтрак. Правда, этот завтрак иногда состоял из маслин и хлеба. Вообще, у них стол был греческий. Истреблялось огромное количество маслин, разных слизняков — улиток, мидий. Мидий ели не только вареными и жареными, в каком виде они составляют одно из лучших блюд на свете, но ели и сырыми, как устриц, — но сырые мидии для непривычного имеют вкус почти противный. Ели множество креветок и разной мелкой рыбы, как бычков, барабульку и т. п. Прованское масло шло во все блюда. Вообще, я очень полюбил греческую кухню. Превосходны в ней пирожные, всегда очень жирные. Замечательны пирожные из цветков акации: кисти акации погружаются в жидкое тесто и зажариваются в масле; это очень красизое и нежное пирожное, сохраняющее сильный запах акации.
Особенно пировали у Серафимовых на Рождество и Пасху. В сочельник непременно готовили кутью из толченой пшеницы с огромной примесью толченых орехов и разных пряностей, чрезвычайно сладкую. Это кушанье необыкновенно вкусное, с которым малороссийская кутья не может идти ни в какое сравнение. На Пасху, разумеется, особенно щеголяли пасхами (по-русски «бабами»).