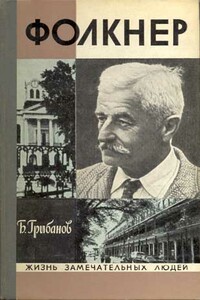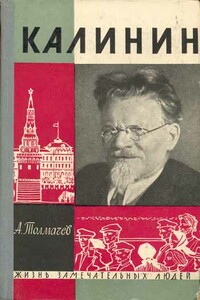Он в это время только что свил себе гнездышко. Женился, должно быть, месяца два назад, нанял хорошенькую квартирку, убрал ее премило и блаженствовал. Я застал его едва вставшим с постели. Новость об аресте Клячко и Цакни его встревожила до такой степени, что я почувствовал презрение к этому «Лео», как его называли (из романа Шпильгагена) и как он сам о себе мечтал. Заметался из угла в угол:
— Что же теперь делать? А у меня книги. Наверное, будет обыск.
Вес это была одна трусость, и никакого обыска у него не произошло. Но я тогда верил ему.
— Нет ли у вас, куда спрятать книги?
Я отвечал, что взял бы к себе, если бы не история с рукописью в кармане Цакни.
— О нет, нет! Как можно к себе! Куда-нибудь к знакомым… — заговорил Рагозин.
Я вздумал о H. М.: человек мирный, хороший, приятель.
— Давайте, — говорю, — куда-нибудь стащу.
Он пришел в восторг, начал рыться, набрал, мне помнится, два чемодана книг. Это все были книги цензурные; тогда нецензурных еще не существовало. Но каждая книга в нескольких экземплярах, иногда в десятках. Я забрал чемоданы и свез на извозчике к H. М. Тот взял, даже не расспрашивая: «Давайте, давайте, пущай лежат».
Это был первый случай моей войны с полицией. Возвратился домой уже х обеду. Потом пошел к Армфельд — и что же? Там сидит Цакни и подает мне мою рукопись. Его на этот раз только допросили и отпустили, даже не обыскавши. Впрочем, на другой же день арестовали снова, и уже окончательно.
Мы, вертевшиеся около Цакни и Клячко, вроде меня, Армфельд, Батюшковой, Князева*>2 и тому подобных, не составляли
никакого кружка и если что делали, то по поручению Клячко и Цакни, да и, собственно, не делали ничего. Оставшись без наших вдохновителей, мы сидели уж совсем смирно; я проводил время в чтении, в подготовлении «Пугачева». Так прошло несколько времени.
Однажды утром, когда я только что встал, ко мне вошел высокий молодой человек, очень худой, безбородый, но с огромными русыми волосами, в огромных синих очках; он смотрел не сквозь них, а поверх них, наклоняя голову и глядя как будто исподлобья. Подойдя, он рекомендовался слабым и глухим голосом:
— Я Чарушин.
Я в первый раз услыхал это имя. Спрашиваю:
— Что угодно?
Он начал объяснять, что с арестом Клячко и Цакни у Петербурга прервались все сношения с Москвой — и он приехал их восстановить.
— Нам, — заметил он, — о вас писали Клячко и Цакни.
Мне все это показалось крайне подозрительным. Я сказал, что никаких дел Клячко и Цакни не знаю.
— Вы разве не слыхали моего имени?
— Не слыхал, — говорю.
— Я по поручению Чайковского.
— Какого Чайковского?
Я действительно ничего не знал. Тогда Чарушин откланялся и ушел.
Я немедленно отправился к Рагозину. Прихожу. Он меня встречает в отдельной комнате и шепчет:
— Какой-то странный человек у меня.
Но в это время «странный человек» вышел из другой комнаты и, попрощавшись с некоторой досадой, ушел. Это был он же, мой человек в синих очках, Чарушин. Когда он вышел, Рагозин спрашивает:
— Вы не знаете его?
— Не знаю.
— Странный какой-то. Говорит, от Чайковского.
— Он и мне говорил, что от какого-то Чайковского.
Тут Рагозин объяснил мне, что Чайковский-то есть на свете, что это «столп», а только этого Чарушина он не знает и находит его похожим на шпиона.
Так мы расстались в беспокойстве, но скоро пришла ко мне Армфельд и сообщила с радостью о приезде Чарушина.
— Вы разве знаете его?
— Ну да, конечно, это из питерских, очень умный и энергичный человек.
16 Чака* 2695
Так дело объяснилось, и Чарушин вечером же виделся со мной у Армфельд, а затем пришел ко мне ночевать.
Мы с ним очень быстро подружились. Это был первый тип действительно живого революционера, мною виденный. Клячко и Цакни были какие-то тряпки, вялые, кислые, занимавшиеся радикальными делами как будто по обязанностям службы и как будто сами от этих дел ничего не ожидавшие. Это происходило отчасти оттого, что оба они были гораздо умнее и старше Чарушина и гораздо хуже его по натуре. Чарушин был неглуп, но главное — человек, способный к вере, человек с потребностью жить чем-нибудь широким. В «дело» свое верил искренно и отдавался ему всецело.