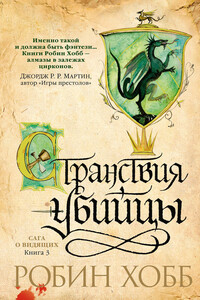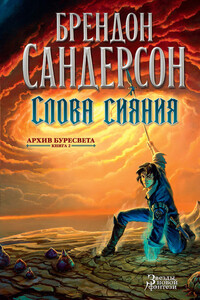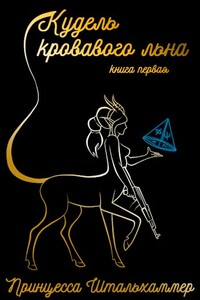— Когда мы войдем в трущобы, ты должна оставаться в машине, — произнес Уэйн нарочито мрачным и торжественным тоном. — Дело не в том, что мне не нужна твоя помощь. Нужна. Просто для тебя это слишком опасно, поэтому ты останешься там, где, как я уверен, тебе ничего не будет угрожать. Это не обсуждается. Прости.
— Уэйн, — окликнул Вакс, — прекрати разговаривать со своей шляпой и иди сюда.
Уэйн тяжко вздохнул, похлопал шляпу и с видимым усилием положил ее на сиденье автомобиля. Вакс был малый что надо, но кое в чем не разбирался. К примеру, в женщинах. И в шляпах.
Вакс и Мараси разглядывали Глухомань. Перед ними будто открылся совсем другой мир. Небо над улицами перечеркивали веревки для сушки белья — бесхозные предметы одежды болтались на них, точно висельники. Из Глухомани дул ветер, с радостью удирая оттуда и принося с собой неоднозначные запахи. Наполовину приготовленной еды. Наполовину вымытых тел. Наполовину очищенных улиц.
Стоявшие вплотную друг к другу высокие многоквартирные дома отбрасывали густые тени даже в полдень. Складывалось впечатление, что закат приходил сюда выпить и поболтать, прежде чем неторопливой походкой отправиться на вечернее дежурство.
— Лорд Рожденный Туманом не хотел, чтобы в городе были трущобы, — сказала Мараси, когда они втроем вошли в Глухомань. — Он отчаянно пытался предотвратить их появление. Строил для бедняков красивые дома, которые должны были простоять долго…
Вакс кивнул, на ходу машинально гоняя монету по костяшкам пальцев. Уэйн пригляделся. Похоже, Вакс где-то потерял пистолеты. А монеты наверняка у Мараси одолжил. Извечная несправедливость. Когда Уэйн одалживал у кого-то монеты, на него орали. Правда, он иногда забывал попросить разрешения, зато всегда оставлял взамен что-нибудь хорошее.
«Нужна подходящая шляпа… — подумал он. — Шляпа — это важно».
Уэйн отстал от своих спутников и прислушался, не раздастся ли где-нибудь кашель.
«Ага…»
Этот старик угнездился на крыльце, укрыв ноги старым грязным одеялом. В трущобах полно таких людей. Они цепляются за жизнь с отчаянием, словно висят на карнизе, и легкие у них наполовину заполнены разными нездоровыми жидкостями. Старик снова заперхал, прижимая ко рту руку в перчатке, когда Уэйн присел на ступеньки рядом.
— Ну чего ищщо? — проговорил трущобный житель. — Ты хто вообще?
— Ну чего ищщо? — повторил Уэйн. — Ты хто вообще?
— Я-то никто. — Старик сплюнул в сторону. — А ты грязный чужак. Я не при делах.
— Я-то никто, — повторил Уэйн, доставая из кармана пыльника флягу. — А ты грязный чужак. Я не при делах.
А хороший говор, весьма хороший. Бормочущий, классический и выдержанный, овеянный историей. Закрывая глаза и прислушиваясь, Уэйн подумал о том, что именно так говорили люди много лет назад. Он протянул старику фляжку с виски.
— Травить меня пытаисси? — спросил бедолага. Он не договаривал слова, пропускал половину звуков.
— Травить меня пытаисси? — повторил Уэйн, работая челюстью, будто стараясь прожевать полный рот камней.
В эту смесь, несомненно, затесались кое-какие северные фермерские поля. Он открыл глаза и снова предложил виски старику, который понюхал угощение и сделал осторожный глоточек. Потом глоток побольше. Потом хлебнул как следует.
— Это самое, — проговорил старик. — Ты, сталбыть, идиот? У меня сын — идиот. Настоящий, таким и уродился. Ну, ты все равно парень что надо.
— Ну, ты все равно парень что надо, — повторил Уэйн, вставая.
Протянул руку, снял с головы старика старую полотняную кепку, жестом указывая на фляжку с виски.
— На обмен? — спросил трущобный житель. — Парень, да ты и впрямь идиот!
Уэйн надел кепку:
— Вы не могли бы произнести для меня какое-нибудь слово, которое начинается с «а»?