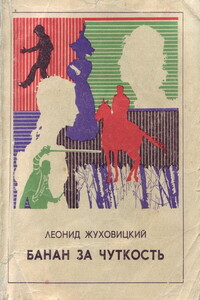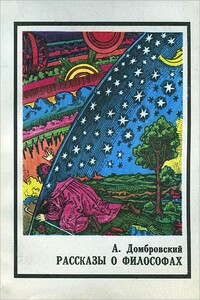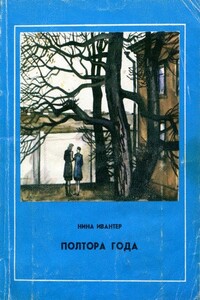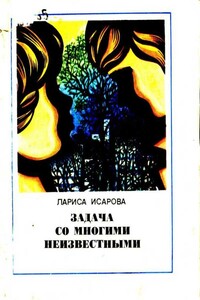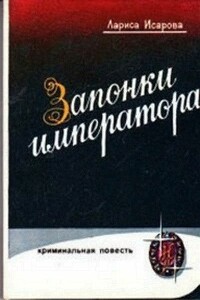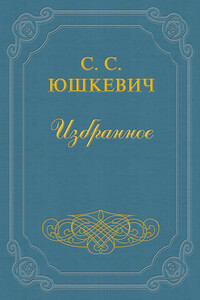Девчонки наши его тискали, а он их всячески презирал, только Варька Ветрова нашла путь к его сердцу, показав, как надо свистеть двумя пальцами.
Митька не поехал, сказал, что все деньги гробанул на кожаный пиджак и хочет подработать, чтобы долги выплатить…
А Кирюша, оказывается, прекрасно поет цыганские песни пол гитару, голос низкий, мы всю ночь до Ленинграда не спали, но пассажиры попались приличные, никто не жаловался. Только в Бологом я чуть от поезда не отстал. Вышел подышать, и показалось, что за платформой какие-то камни грудой рассыпаны и блестят; ну и сунулся полюбопытствовать. Оказалось, куски мрамора для монумента. И пока я примеривался, какой кусочек свистнуть, наш поезд двинулся без всякого сигнала.
Пришлось в последний вагон прыгать, хорошо что проводница попалась сознательная, дверь не сразу закрыла. Она сначала меня алкашем несчастным обозвала, думала, я за бутылкой бегал, а потом обнюхала, удивилась и отпустила с почетом.
В нашем купе никто и не заметил, что меня нет, даже обидно стало. Ланщиков что-то Антошке вкручивал, Ветрова с Петькой, сыном Кирюши, возилась…
Все-таки человеку, наверное, надо быть кому-то нужным?
И я на всех обиделся, хоть и толстокожий…
В Ленинграде я побывал впервые, и у меня все в голове смешалось. Мы спали не больше трех часов, ходили по улицам днем и ночью, мы хотели проверить, права ли Оса, когда говорила, что Достоевский улавливал биологические часы человека, понимал или чувствовал, как воздействует освещение, времена года на психику героя. Бродили мы четверо: Варька, Антошка, Лисицын и я.
Мы быстро нашли музей Достоевского и там почти полдня проторчали. Все-таки тетки в музеях — мученицы. Они почему-то радуются, когда к ним пристаешь с вопросами. Мы еле Варьку с Антошкой утащили, все картины пересмотрели, а уж когда в комнаты вошли — совсем впали в умиление. Их восхищало, как у него все бедно по сравнению с квартирой Пушкина.
— Пушкин был тоже небогат для своего времени, — сказал нам экскурсовод, — вы учтите, что вещи, мебель, которые сегодня кажутся музейными, были у многих, как сегодня, гарнитуры. Это мода времени, и не самая дорогая. А при Достоевском вещи времен Пушкина стали музейными, недоступными.
— Неужели и наши вещи когда-нибудь будут старинными? — мечтательно протянула Варька.
— Вряд ли, — сказала экскурсоводша, — безымянность никогда не улучшала качества. Раньше было известно, кто вещь делает, из чьих она рук, была гордость за фирму и выгода от этой гордости. А теперь заводской поток, легко халтурить.
Очень удивлял меня Лисицын, обычно он шута строят, больше всего любит, когда из-за него все хихикают, а тут он не очень ломался, только звал нас во всякие кафе. У него уйма денег была с собой, целых пятьдесят рублей.
Когда он не кривляется, вполне красивый парень, ростом почти с меня, лицо взрослое, я рядом с ним как младенец из яслей. Но Лисицын никогда ни по одному опросу не имеет своего мнения, с кем бы ни говорил, со всеми соглашается. А главное, совершенно не думает о матери, а я ее знаю давно, и мне она очень нравится. Она маленькая, кругленькая, веселая, бессменный председатель родительского комитета.
Я давно пытаюсь выяснить, что его в жизни интересует, потому что он уже сейчас, в девятом классе, занимается с тремя репетиторами, а он отшучивается. А в Ленинграде как-то, пока девчонки крутились перед зеркалом в гостинице, мы вышли с ним на улицу, и он вдруг сказал:
— Эх, была бы моя воля, пошел бы я бродяжничать куда глаза глядят…
Я удивился, он никогда не ходил с нами ни в какие походы.
— Не у той мамаши я родился, но родителей не выбирают. Мне бы тетку погрозней, чтоб лупила вдоль и поперек, а моя только слезы льет, к сознательности взывает, хотя ей совершенно все равно, кем я стану, лишь бы с дипломом.
— А тебе не все равно? Он пожал плечами.
— Все равно, вот это и обидно. Повоевать с ней за идею, так не из-за чего. Я бы с удовольствием стал парикмахером…
Я пригляделся к его волосам, и мне показалось, что он пострижен как-то не совсем обычно.
— Сам?
Лисицын кивнул.
— Хочешь обработаю?
Я не решился, вспомнил, как он в классе обкорнал одного парня.