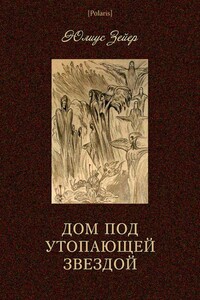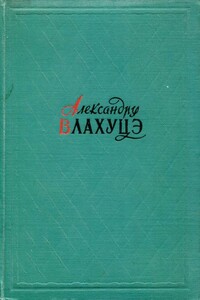— Правда, диди, перестанут они или нет? — начинала сердиться и Шукла. — Даже понять не могу, из-за чего они спорят! Пусть пишут свои картины, как кому хочется, а нам дадут спокойно выпить по чашке кофе. Себе голову морочат и на нас тоску нагоняют.
— Я тоже считаю этот разговор бесполезным, — пытался с честью выйти из спора загнанный в угол Бхаргав. Обезоруженный этой фразой Шивамохан был вынужден умолкнуть. Но будь его воля, он так и продолжал бы говорить, говорить и говорить без конца, пока не откажет голос, да и тогда, пожалуй, он ухитрился бы произнести напоследок зачин следующей фразы — вроде: «Видите ли…».
Когда в кафе появлялся Харбанс, это значило, что через десять минут всем нужно будет встать и разойтись по домам. Нахмуренное его лицо словно говорило: вот, ради пустой формальности, пришлось оторваться от чрезвычайно важного дела. Мы выпивали еще по одной чашке кофе и выходили на улицу. Там Харбанс всякий раз властно брал меня за руку и начинал настаивать на том, чтобы я отправился вместе с ними ужинать. Я не мог понять: отчего из всей компании приглашения на ужин удостаивался только я? И спешил придумать отговорку. Дело в том, что пока мы все сидели за общим столиком в кафе, я забывал о собственной неустроенности в быту, о своей неприкаянной холостяцкой жизни, когда же мы оказывались в их уютном жилище, с душевной болью вспоминал обо всем этом. Непринужденность веселой дружеской беседы, подчеркнутая сердечность, с какой ко мне относились в семье Харбанса, еще мучительней указывали на мое одиночество, и потому в их доме мне не удавалось вести себя столь же просто и свободно, как в кафе. Чужие мягкие кресла все время напоминали мне о колченогих стульях в нашей с Арвиндом жалкой каморке. Конечно, со временем это чувство утратило свою первоначальную остроту, но улетучиться без остатка так и не смогло.
Как-то в субботу, когда мы вышли из кафе, Харбанс сказал, что хочет посоветоваться со мной об одном важном деле, и попросил прийти в воскресенье к ним на обед, чтобы спокойно обо всем потолковать. Мы договорились на двенадцать часов дня. На другой день я вышел из дому ровно в одиннадцать и за несколько минут до двенадцати уже стоял перед их домом на Хануман-роуд. На мой звонок вышла Нилима. Увидев меня, она досадливо прикусила губу.
— Ой, я и забыла, что ты должен прийти… — смущенно проговорила она. — Правда, правда, утром Харбанс предупредил меня, что ждет тебя к обеду! А я совсем-совсем забыла… Даже не успела умыться! Видишь, в каком я виде? You don’t mind![32]
Нилима была в полосатой ночной пижаме, и эта одежда делала ее неожиданно худенькой, похожей на подростка. В уголке ее рта была зажата наполовину выкуренная сигарета, в руке — зубная щетка.
— Я сейчас, одну минутку, — пообещала она и исчезла во внутренних покоях. Но тут же появилась снова. — Нет, тебе будет скучно одному, если я уйду переодеваться. Харбанса ни с того ни с сего вызвал к себе директор, — боюсь, что он не скоро вернется. Он велел мне задержать тебя и занять разговором. Может быть, ты сам подскажешь, чем тебя занять? — Гибким движением скользнув в кресло и непринужденно усевшись в нем, она продолжала: — Тебя, наверно, шокирует моя сигарета? Хочешь, брошу? А иногда так славно выкурить пол сигаретки! У меня уже привычка! Только вот Харбанс ужасно сердится.
— Ну и кури, если это доставляет тебе удовольствие, мне что за дело? — возразил я. — Впервые вижу тебя с сигаретой, сначала показалось немножко странным. Но ты кури, пожалуйста, я даже обижусь, если бросишь…
— Ну что ж, не доставлю тебе повода обижаться! — Она глубоко затянулась дымом и с улыбкой спросила: — Не пойму, чем ты так очаровал Харбанса? Все сегодняшнее утро он не переставая хвалил тебя.
— Приятно знать, что есть хоть одна душа на свете, способная меня похвалить, — пошутил я.
— А хочешь — скажу, в чем тут дело? — спросила она, стряхнув пепел с кончика сигареты. И таинственным шепотом, будто делясь со мной секретом, объяснила: — Теперь Шивамохан и Бхаргав у него не в милости, понимаешь? Но ведь должен же быть человек, которого он мог бы похвалить. Вот он и выбрал тебя!