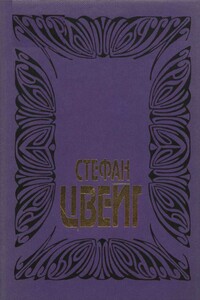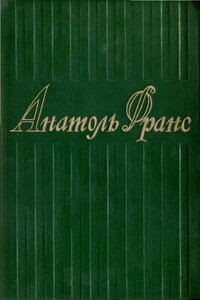Намек был ясен. Оставаться здесь нельзя было больше ни минуты. Я сам поставил себя в глупое, неловкое положение и теперь сожалел об этом. Но сразу повернуться и уйти казалось мне тоже неприличным, и я медлил в нерешительности, разглядывая их старые, жалкие пожитки. Тот самый ситар, чьи звуки по ночам заставляли трепетать небо, выглядел сейчас до удивления невзрачным — с боков его, истертых руками музыканта, давно сошел лак обнажив желтую древесину. На простынях, покрывавших веревочные лежаки, кое-где виднелись заплатки, а развешанная на гвоздях одежда была ветха от постоянной стирки. Дешевая алюминиевая посуда хранила на себе многолетнюю копоть — сколько уж тысяч раз обжигал ее огонь очага! И где были спрятаны сейчас щегольские шали Хуршид, позволявшие ей так гордо нести голову! Впрочем, и теперь голова ее была высокомерно вскинута а в глазах сверкали вызывающие, неприязненные искорки.
— Да, конечно… Отдыхайте, пожалуйста, — проговорил я. — Мне совестно, что я обеспокоил вас…
— Что вы, что вы, пожалуйста, — возразил миян, поспешно проглотив кусок. — Если вы так любите музыку я сейчас…
— Нет, отец, сейчас вы не станете играть! — прервала его Хуршид. — У вас очень плохое здоровье, после обеда вам нужен отдых.
В ее глазах ясно читалось недовольство всем происходящим. Надо было немедленно убираться.
— Правда, правда, — подхватил я, — если вам время отдыхать, я мешать не стану.
Поклонившись мияну, я вышел из комнаты, унося с собой жгучий стыд унижения. Видимо, мой неожиданный визит послужил поводом к острой размолвке между отцом и дочерью, потому что в последующие несколько ночей миян совсем не притрагивался к ситару.
Когда, спустившись вниз, я вошел в свою комнату, на пороге немедленно появилась тхакураин.
— Что, лала, и ты начал туда похаживать? — спросила она.
— Мне хотелось посидеть на солнце, — сухо ответил я и, отвернувшись, уткнулся в книгу.
— Будто уж! Посидеть на солнце! — не отставала она. — Если хочешь другим говорить неправду, то и говори, а зачем обманывать свою бхабхи?
Выдержка изменила мне. С силой захлопнув раскрытую было книгу, я отбросил ее в сторону.
— У вас, бхабхи, только одно на уме! — отрезал я сердито.
Тхакураин вдруг побледнела.
— Э, лала, ты сразу и сердиться… — заговорила она с жалкой улыбкой. — Плохое подумал! Так ведь я же ничего не сказала… Что я — не понимаю, какие у тебя могут быть дела с этими людьми? Будто ты такой уж человек, что станешь нюхать этот битый горшок, а? Я же просто так, ради шутки. Сегодня и вправду прохладно, всякий норовит хоть часок погреться на солнце. Раз уж мы платим за квартиру, отчего бы и не погреться наверху, правда же? Его ведь солнце-то — господь сотворил, не миян же над ним владыка? Да я и сама тут недавно говорю матери Гопала: а не погреться ли и нам с тобой на солнышке?…
Не отвечая, я снова взял в руки книгу. Тогда тхакураин подошла еще ближе и сказала:
— Смотри же, лала, не подумай плохо про мои слова! А? Чем хочешь могу поклясться — я только ради смеха…
— Ладно, бхабхи, не будем больше об этом, — так же сухо ответил я. — Теперь мне хочется почитать.
— Ага, ага, правда! Посиди, почитай, а я уж пойду себе, — говорила тхакураин, отступая к порогу. — Ведь твоя бхабхи не такая грамотная, как ты. Если когда и скажет глупость, так не прогневайся. Чего ради поминать тебя рядом с какой-то уличной девкой, которая на весь дом себя опозорила! Бит возьму сейчас и отрежу себе язык чтобы в другой раз не болтал лишнего. Ты уж, пожалуй ста, не сердись, не обижайся на мои глупые речи… А может, лала, чай тебе приготовить, а?
Я покачал головой в знак отказа, и тхакураин ушла. Книжные строчки извивались и путались в моих глазах а я снова и снова вспоминал язвительные слова Хуршид снова и снова видел перед собой ее горящие глаза.
И вот, очень скоро, настал тот ненавистный день, когда карман мой опустел окончательно. В последний раз, с последними шестью анами[20] в кармане, я отправился к редактору «Иравати», чтобы спросить его напрямик — берет он меня или нет? Еще накануне вечером я твердо решил, что в случае отказа тут же продаю часы и с вырученными за них тридцатью-сорока рупиями уезжаю в родную деревню. Но — о, чудо! — в тот день многоуважаемый господин редактор оказался в особо приятном расположении духа и без дальнейших отлагательств велел мне с первого числа следующего месяца выходить на работу, отчего сразу стало ясно, что та отчаянная минута когда люди снимают с запястья часы, последнее свое до стояние, для меня, слава богу, еще не настала.