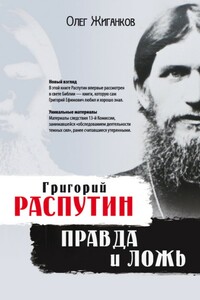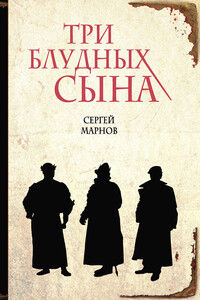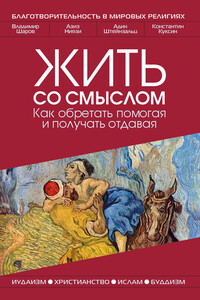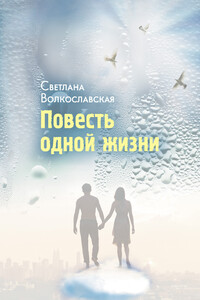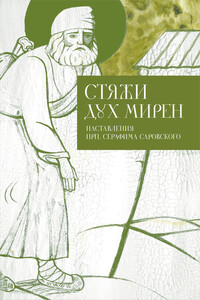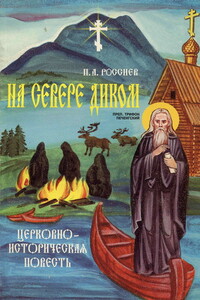Все епископы в отношении канонов о церковном управлении мыслили изначально одинаково и одинаково неправильно (только Михаил Новоселов, если он был уже епископом, мог составлять исключение, но, в любом случае, его епископство было тайным, и он смог проявить себя в делах церковного устроения лишь тогда, когда появилось из кого организовывать движение «иосифлян»). Просто некоторые епископы, а потом и большинство епископов, стали спохватываться, когда уже, что называется, «зашли слишком далеко».
Теперь подробнее о том, как это было.
1. Синодальный строй как самоуправство
О каноничности синодального строя не приходится говорить, но тем важнее понять, в чем же именно состояла его неканоничность, а в чем он был канонически допустим, а также в чем — недопустим, но заслуживал снисхождения.
Канонически допустимой была отмена патриаршества и замена его коллегиальным управлением епископов. Это не противоречило никаким правилам и принципам церковного устройства. Более того, эта идея была одобрена процедурой, близкой ко Вселенскому Собору: было получено (именно на нее, а не на синодальный строй) благословение восточных Патриархов. Письмо Петра I к восточным Патриархам, написанное Феофаном Прокоповичем, на которое был получен благоприятный ответ, было именно об этом, а не о том, чем на самом деле был синодальный строй. Апостольское правило 34-е о необходимости «знать» первого епископа относится к формированию церковных областей, которые совсем не подразумеваются совпадающими с границами государств. Так, в самой Византии было изначально пять первенствующих епископов (патриархов), а потом четыре. Если верить, что это правило отражает какие-либо реальности доконстантиновской эпохи, то и подавно очевидно, что оно относится к каким-то прототипам византийских митрополий, но имеющим автокефальный статус.
Канонически допустимым было также создание общего органа управления, включающего коллегию епископов и государственного чиновника, — при условии, что речь шла о христианской империи, где власть представляла собой форму организации христианского народа. До падения российской монархии это условие выполнялось. В юстиниановском законодательстве, признанном Церковью как часть церковного права, также предусматривались механизмы взаимодействия с гражданской властью в принятии значимых для нее церковных решений. Например, гражданские главы провинций отбирали кандидатуру, одну из трех представленных епископатом, на возведение в епископы. Это была форма представительства церковного народа в деле поставления епископов, так как христианская империя предполагает, что государственные чиновники действуют в интересах православного народа, будучи сами его частью. Хорошо это выходило или плохо — вопрос отдельный, но, в любом случае, это не противоречило принципам церковного устройства или каким-либо канонам.
Все принципы синодального строя, кроме одного, также укладывались в эту парадигму. Но один не укладывался и уложиться не мог: это верховенство императора в качестве «крайнейшего судии сей коллегии» (Синода). Поставление епископов от имени государя императора, как это всегда указывалось в документах синодального периода, совершенно формально и недвусмысленно подпадало под правила о поставлении епископов от светских властей, за что как сам поставленный, так и поставившие его епископы подлежали извержению из сана (Апост. 30 и Седм. 3). Однако это правила, в которых теоретически возможна икономия, так как они не касаются напрямую хранения чистоты веры. Икономия не ведет к оправданию подобных вещей (они продолжают считаться преступлениями, т. е. синодальный строй нельзя не считать преступным), но она принимает во внимание смягчающие обстоятельства, если таковые имеются, и на этом основании смягчает наказание или вовсе от него избавляет.
В случае синодального строя были серьезные основания принимать его по икономии, хотя и нельзя было бы осуждать тех, кто от синодальной Церкви отделился. Это притом что, надо подчеркнуть (вопреки некоторой части антисергианской литературы), православие государственной власти в синодальный период не является смягчающим обстоятельством, так как Седьмой Вселенский Собор в своем правиле 3 специально повторил апостольское правило для современной ему христианской империи.