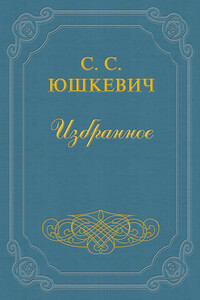– Врешь ты, – сказал он Шустикову, – что в комсомол подашь. Тебя, конечно, все равно не примут. Да тебе самому не нужно. На кой?
– Значит, нужно, – ответил Шустиков.
Костяшкин смотрел на приятеля, и впервые тот раздражал его так...
– Не может быть, чтоб тебя приняли, – сказал Костяшкин.
– Поглядим.
Костяшкин отвернулся. Шустикову не о чем больше было с ним говорить. Васька вышел из повиновения. Он держался настолько независимо, что и цыкать на него было бесполезно – Алексей чувствовал: не помогло бы. Нужно что-то изобрести...
– Ну ладно, – сказал Шустиков.
– Пока, – не оборачиваясь, ответил Костяшкин.
После стычки с Шустиковым у Валерия было победное настроение. Рассказал он о случившемся сначала одной Лене – чтоб знала, что он не только придумал, но предпринял кое-что для защиты своих пионеров. О поединке с Шустиковым он умолчал, не желая оттенять собственной доблести.
– Так они и капитулировали, даже отомстить не посулили? – переспросила Лена.
– Нет, – ответил он, дивясь, что Лене недостает именно конца истории, им обрубленного.
– М-да, – сказала Лена. Она не осуждала и не восторгалась, и Валерий, который ожидал, что она разделит его настроение, был обескуражен.
Встретив на перемене Леню Хмелика и Гену Конева, он рассказал всю историю им. О том, как бросил Шустикова в снег, он тоже упомянул, но без подробностей, чтоб не получилось хвастливо.
Мальчики пришли в восхищение. История распространилась со скоростью звука. Валерия обступили. Нарушилось нормальное движение по коридору. После замечания дежурного толкучка прекратилась, но пятиклассники следовали за Валерием цепочкой, выспрашивая подробности, которые тотчас передавались по цепочке же из уст в уста.
Они допытывались, с какой высоты летел Шустиков, получил ли он предварительно тумака, не схлопотал ли напоследок по шее. Они торжествовали, но им было мало того, что произошло.
На следующей перемене Валерий походя услышал всю историю в пересказе Гены Конева. Со слов Гены выходило, что он поднял Шустикова за штаны и за волосы, а на прощание «так звезданул по уху, что тот зарылся носом в снег».
– По уху я его не бил, – заметил Валерий, сдержанно отклоняя такое преувеличение своих заслуг. – И этого не говорил.
– Нет, говорили! – пылко возразил Хмелик. – Я сам слышал!
– И я тоже, – присоединился Конев. – Вы сами сказали.
– Я очень хорошо помню! – с горящими глазами твердил Хмелик.
И, хотя Валерий знал наверняка, что это не так, он не стал отпираться. Глупо и бесполезно было спорить, призывать кого-то в свидетели...
– Ладно, говорил, – буркнул он и улыбнулся, уступая ребятам вымышленную оплеуху.
На него смотрели уважительно до обожания, чуть приоткрыв рты, а Хмелик – как-то нестерпимо преданно.
– Я пойду, – сказал Валерий.
В противоположном конце коридора его нагнал Гена Конев.
– Мы вас, имейте в виду, тоже не подведем, – заговорил он торопливо. – Вы, наверное, знаете... Вам, наверное, уже наша классная руководительница сказала, да? В общем, я двойку на географии схватил... Так я завтра исправлю. А там еще с одним Хмель возится...
Зазвенел звонок. Конев, махнув рукой, убежал.
И Валерий вошел в класс, весело раздумывая о странном способе повышения успеваемости, который нечаянно применил.
Победное настроение Валерия рассеялось на большой перемене. Передавался первый выпуск радиогазеты «Школьные новости». Не меньше половины выпуска занял фельетон Зинаиды Васильевны Котовой о нарушителях дисциплины.
Может быть, помещенный в стенгазете, фельетон не приковал бы к себе внимания ребят, как не вызвала бы особого интереса речь Котовой о том же на собрании. Но первая передача по школьному радио – это было событие. К тому же фельетон читала девочка-диктор, подражая дикторам настоящего радио, и можно было гадать, чей это голос. Словом, передачу, шикая друг на друга, слушали на всех этажах.
В фельетоне говорилось сначала об уже, засунутом кем-то в портфель учительницы русского языка и литературы. Хозяин ужа был назван «воскресителем нравов дореволюционной гимназии». «Воскресителю» предлагалось повиниться.