Сейчас, сидя с тем, чью фотографию ему показывал Босс (когда ж это было? недавно ведь совсем, а кажется, жизнь прошла!), Варенов видел лицо Эмиля и слышал его слова: «Сейчас такое время пришло, Исай, что нужно все отвергать, никаких играшек, они в суд без улик не пойдут, так что — выпустят, а если нет — мы тебя выкупим, рукастые…»
Он словно бы зубами держался за эти слова, как за спасательный круг держался, и поэтому чувствовал входившее в него успокоение.
— У меня есть твой палец, Варенов, ты знаешь, где мы его нашли, нет смысла запираться… Тем более ты там, видимо, не главный был… Говори правду, у меня времени мало, лучше сразу определим позицию, глядишь, и поможем в чем…
— Вот они, мои пальцы, — Варенов кивнул на кисти, стянутые наручниками. — Каждый человек имеет пальцы, они для того и даны, чтоб следы оставлять…
— Не юродствуй… Я ж тебе не про пальцы говорю, а про палец… И не спрашиваю, откуда у тебя при задержании был пистолет в кармане… Все равно скажешь… Я тебя спрашиваю про хозяина, он меня занимает.
— А я говорю, что нет у меня никакого хозяина! А пистолет вы мне сами в карман засунули…
— У нас кино есть, как ты этот пистоль в подвале на Лесной брал.
— Вы суду кино предъявите, пусть посмеются.
— Не беспредельничай, Варево…
— И вы — не надо… Вы мне вину докажите… Я вам свою честность доказывать не обязан… Ваше время теперь кончилось, по закону будем жить…
Костенко кивнул:
— Верно. И жить будем по закону, но и расстреливать — по закону — тоже будем.
Он снова закурил, сказал сыщикам, сидевшим рядом с Вареновым, чтобы везли его оформлять на Петровку, и, подняв наконец глаза на арестанта, негромко сказал:
— Думай о том, Варево… какое алиби выставишь на ту ночь, когда Людку убивали… Видишь, я поступаю по закону, силков не ставлю, даю шанс…
… Сорокинские боевики молчали, отрицали все вчистую: и финки им не принадлежат, впервые видят, и Варенова никакого не знают, точка! Ни на один вопрос не отвечали. Крутые парни, ничего не скажешь, школа…
Костенко заехал домой, взял из своего НЗ две бутылки «Посольской», написал Маше записку, чтоб не ждала, останется спать у Строилова, выгреб в кулек из холодильника все, что было, и отправился на Кутузовский проспект — буду стучать, закричу, откроет, не может не открыть…
… Он поднялся на четвертый этаж строиловского дома, остановился возле квартиры генерала, положил кулек на пол и прижался ухом к двери. В соседней квартире кто-то бездарно-деревянно разучивал гаммы, в другой визжали дети; в угловой, у телефона, надрывалась глухая бабка, повторяя крикливо-равнодушное: «Громче, Лид, не слышно! Гутарь громче, в трубке трещит, теперя, говорят, всех подслушивают!»
Положив ладонь на дверь, Костенко пошлепал несколько раз. Стучать костяшками казалось ему невозможным сейчас, любой резкий звук для Строилова ножом по стеклу…
Никто не отвечал.
Костенко склонился к замочной скважине, прижался губами, ощутив тошнотворный привкус меди:
— Андрей, открой, у меня дело…
В квартире по-прежнему царила тишина.
— Андрей, не заставляй меня карабкаться по лестнице… Все равно войду, окно ж на кухне открыто…
Он не слышал шагов; дверь отворилась внезапно. В проеме стоял обросший, еще более осунувшийся Строилов. На нем были толстые шерстяные носки, поверх джемпера натянут старенький армейский ватник. Выутюженные в стрелочку переливные брюки казались чужеродными, словно с другого человека.
— Очень срочно? — спросил он потухшим, заметно севшим голосом.
Костенко поднял кулек с гостинцами, вошел в квартиру, включил свет и только тогда ответил:
— Да.
Строилов по-прежнему стоял не двигаясь, в комнату не приглашал:
— Докладывайте здесь.
— Я принес водку… Вам надо расслабиться.
— Я не пью.
— Да и я не алкаш… Полагается… По-христиански…
— По-христиански полагалось бы предупредить меня, что за папой началась охота… А не играть в самодеятельность…
— Можно пройти на кухню?
— Нет… Мне надо побыть одному…
Костенко положил наконец злополучный кулек на подзеркальный столик, полез за сигаретами, одернул себя: старик просил здесь не курить — надо перетерпеть, оперся о дверь и отчеканил:


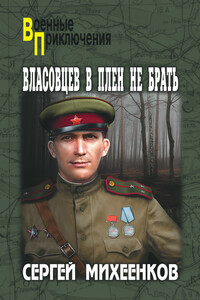





![Расследования Берковича 7 [сборник]](/uploads/books/images/05/059fed21cdd463f4fb84a9fb7798bea05096f86d.jpg)
![Расследования Берковича 8 [сборник]](/uploads/books/images/de/de6f5d5878e4ae4bc41fb6eaec42573a6a49fd16.jpg)

