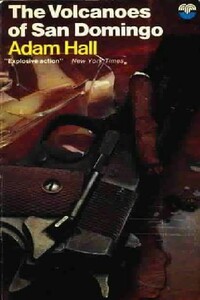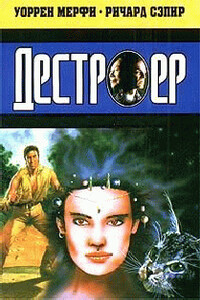В Мельбурне мы купили половину не слишком нового, но и не такого уж старого двухэтажного дома в Гайдельберге, на территории бывшей олимпийской деревни. Не стану утверждать, что именно это обстоятельство повлияло на выбор дома, – но определенно бабке нравилось, когда ей рассказывали, что именно в этом доме некогда жили русские футболисты: пили по вечерам водку и один из них, похожий на цыгана, играл на гармонике и они все дружно подпевали ему, сидя на кроватях в комнате, служившей нам столовой.
В Мельбурне я не ощущал каких-либо стеснений, скоро и у меня завелись дружки, такие же ребята, как и я, правда, кое-кто уже не знал и слова по-русски.
Но вдруг жизнь сломалась, полетела к черту, в тартарары, и я почувствовал себя рыбой, выброшенной на песок, – меня призвали в австралийскую армию. Как ни билась бабка, как не раздавала взятки врачам, начальнику полиции, умудрилась добраться до губернатора штата, пытаясь выгородить меня, – пустые хлопоты. Австралийцы сами-то не слишком рвались воевать во Вьетнаме, а по каким-то там дурацким договорам с американцами им довелось послать свой корпус в это пекло.
Я и не подозревал, в какую хлябь затолкнула меня жизнь. Нет, не то чтоб я испугался выстрелов или наложил полные штаны от страха. Может быть, мне просто повезло, но в серьезных переделках участвовать, считай, и не довелось – все больше патрулирование зоны, вылеты не вертолетах к предполагаемому месту дислокации партизан вьетконга. Кое-кто из моей компании успел получить пулю в ноги – вьетконговцы больше стреляли по ногам, так было выгоднее, потому что из строя выбывало сразу трое. По неписанным законам раненого немедленно выносили из боя. Не знаю, чем там я приглянулся нашему ротному, но только он благоволил к моей персоне и не скрывал этого. Ротный стал поручать мне кое-какие деликатные делишки…
Быть бы мне к концу компании офицером, уж документы заготовили.
Но случай подвернулся совсем иной. Однажды взвод подняли ночью, по тревоге. Как из ведра лил дождь. Тропический дождь вообще штука, скажу вам, препохабная: охватывает такое ощущение, словно бы сунули тебя в бочку с водой, да вдобавок головой вниз – ни вдохнуть, ни выдохнуть. Сонные, злые, мы кое-как выстроились на плацу, и при свете двух прожекторов, бивших прямо в глаза, офицеры принялись вводить нас в курс дела. Из всей той болтовни мы усекли лишь одно – нас бросают на усмирение деревни. Нам, честно говоря, было одинаково, куда и зачем ехать: мы молили бога, чтоб побыстрее приказали садиться в машины, залезть бы под брезент и укрыться от дождя, от пронизывающей холодной сырости, от орущих командиров, от себя самого, черт возьми!
Ехали чуть не ночь, много раз приходилось, надрывая жилы, вытаскивать на своем горбу машины из болота. Когда забрезжил серенький дождливый рассвет, колонну обстреляли, мы повыскакивали и завалились прямехонько в грязь, в вонючую, набитую разными живыми тварями, жалящими и кусающими, жижу.
Все это отнюдь не способствовало поднятию настроения. Оказалось, что ночью к нам присоединились – или мы к ним, поди разберись – американцы из морской пехоты. Они должны были провести карательную акцию, а мы ассистировать им.
Деревня была большая, чуть не на километр растянулась. Жители, правда, старики да малолетние дети, – ну, какие там с них партизаны. Но американцы озверели – в перестрелке убили одного из них, и они жаждали расквитаться. Не было для нас секретом, что частенько сжигали непокорные села, да и с мирными жителями не слишком церемонились, знал об этом не я один, но мы не придавали этим разговорам особого значения, считая, раз мы не занимаемся этим грязным делом, то оно нас и не касается. Война есть война. Так рассуждали многие, хотя были и такие, кто жаловался на скуку и готов был стрелять в любую живую тварь.
Что там произошло, не знаю, но американцы согнали жителей на площадь, а дома принялись методически поджигать. Крики, плач, вопли, зловещий треск пламени, стрельба – морские пехотинцы для верности полосовали из автоматов каждую постройку. Тут-то из горящего дома, прямо из огня и прозвучала очередь и двое пехотинцев ткнулись носами в грязь. Мне показалось, что американцы только и ждали этого, им не хватало запаха крови. Что там поднялось, описать трудно! Мне навсегда врезалось в память исковерканное страшной нечеловеческой болью лицо девушки, почти подростка, которую двухметровый американец буквально разорвал своими огромными ручищами. Я видел, как у нее из орбит вылезли глаза и потекла кровь, она от боли у нее почернела – черная, дымящаяся кровь. Я выблевал весь завтрак на себя…